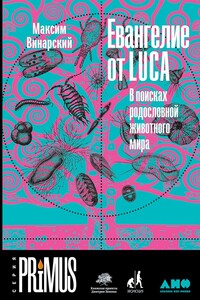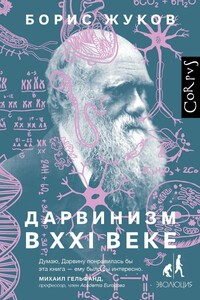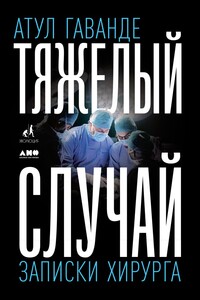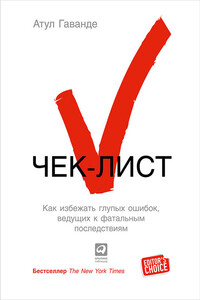Все мы смертны | страница 37
Отчасти Феликсу просто повезло. Например, у него не так уж сильно ухудшилась память. Но, кроме того, он хорошо знал, как нужно строить свою жизнь в преклонном возрасте. Цель его была скромной: добиться, чтобы его жизнь была по возможности достойной, насколько позволяют медицинские знания и индивидуальные особенности его организма. Поэтому он откладывал деньги, не стал выходить на пенсию слишком рано – и в результате у него не было серьезных финансовых ограничений. Он поддерживал сеть социальных контактов и избегал одиночества. Следил за весом и состоянием костей и зубов. И заранее нашел наблюдающего врача, который разбирался в геронтологии и помог пациенту сохранить независимость.
Я спрашиваю профессора-геронтолога Чеда Баулта, что можно сделать, чтобы обеспечить достаточное число геронтологов – учитывая рост популяции пожилых людей. “Ничего, – отвечает Чед. – Уже поздно”. Чтобы стать специалистом-геронтологом, нужно время, а нам уже сейчас не хватает таких специалистов. За год диплом геронтолога получают в США менее 300 врачей[52] – и этого не хватает даже на то, чтобы заполнить вакансии докторов, уходящих на пенсию, не говоря уже об удовлетворении растущих потребностей в ближайшие десять лет. Нужны нам и психиатры-геронтологи, и медсестры с геронтологическими знаниями, и социальные работники – и их тоже очень мало. Такое же положение наблюдается и за пределами Соединенных Штатов. Во многих странах оно даже хуже.
Однако Баулт полагает, что у нас еще есть время для другого маневра: он бы направил геронтологов обучать всех врачей и медсестер общей практики уходу за престарелыми пациентами, чтобы геронтологи могли переложить на коллег часть нагрузки. Но и это непростая задача: у 97 % студентов-медиков в программе нет курсов по геронтологии, к тому же такая стратегия требует, чтобы общество платило геронтологам не столько за лечебную практику, сколько за преподавание. Но Баулт уверен, что в течение десяти лет организовать соответствующие курсы можно при всех медицинских институтах, сестринских училищах, школах социальных работников, предусмотреть их во всех учебных планах для интернов – было бы желание. “Надо что-то делать, – говорит он. – Жизнь стариков вполне может стать лучше”.
“Представляете, я до сих пор вожу машину, – говорит мне Феликс Силверстоун после нашего совместного обеда. – И очень даже неплохо”. Ему нужно съездить за несколько километров в Стаутон – купить Белле лекарства по рецептам, – и я напросился поехать с ним. У Феликса десятилетняя золотистая “тойота-камри” с автоматической коробкой передач; на спидометре – 39 000 миль пробега. Машина сияет чистотой снаружи и внутри. Феликс выезжает задним ходом со своего парковочного места, вплотную к которому стоят другие машины, и вот мы уже за воротами гаража. Руки у Феликса не дрожат. Сегодня новолуние, сгущаются сумерки, однако мы плавно катим по улицам Кантона, Феликс мягко останавливается на красный свет, в нужный момент включает поворотники, идеально маневрирует.