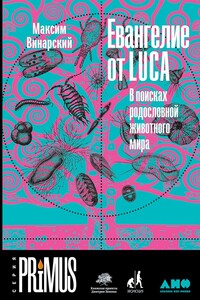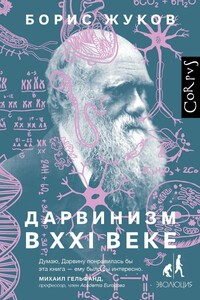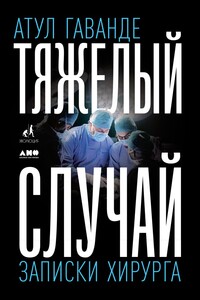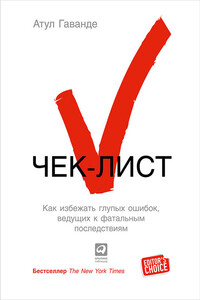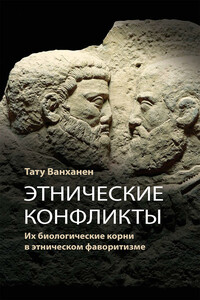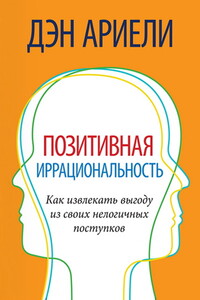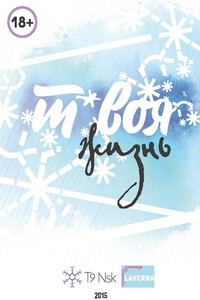Все мы смертны | страница 123
Двухлетнее наблюдение над этой программой “параллельного ухода” (concurrent care) показало, что участвовавшие в ней больные гораздо охотнее обращались в хоспис: их доля выросла с 26 до 70 %[101]. И неудивительно, ведь теперь их не вынуждали отказываться от всего остального. Удивительно другое: больные стали сами отказываться от агрессивного лечения. Они приезжали в больницу по скорой вдвое реже, чем больные из контрольной группы. Оставались в больнице и в реанимации на две трети реже. Общие расходы таких больных упали почти на четверть.
Результат поражал и обескураживал: было не очень понятно, почему, собственно, новый подход оказался столь действенным. Компания Aetna предлагала и более скромную программу совместного лечения для более широкой группы смертельно больных[102]. К ним применялись стандартные правила хосписа: чтобы получать услуги хосписа на дому, нужно было отказаться от обычного лечения. Однако и в том, и в другом случае к больному прикреплялись патронажные сестры, которые регулярно звонили ему, заходили проведать и помогали во всем – от подбора болеутоляющих до оформления завещания. И среди этих больных доля обратившихся в хоспис подскочила до 70 %, а потребность в больничном обслуживании резко упала. Престарелые больные теперь на 85 % реже соглашались лечь в реанимацию, при этом показатели удовлетворенности взлетели до небес. В чем же дело? Руководители программы решили, что дело в патронажной сестре: они предоставили тяжело больному человеку собеседника, обладающего нужным опытом и знаниями, с которым можно было обсудить свои повседневные нужды. Ведь иногда достаточно просто поговорить.
Однако, похоже, все объясняется иначе – и хотя это объяснение поначалу не укладывается в голове, однако в последние годы появляется все больше данных в его поддержку. Две трети онкологических больных в терминальной стадии в рамках исследования “Пытаясь справиться с раком” рассказали, что они так и не обсудили со своими лечащими врачами, какова все же цель этой финальной терапии, – несмотря на то, что им в среднем оставалось жить всего четыре месяца[103]. Зато оставшейся трети больных, которые все же смогли обсудить это со своим врачом, гораздо реже приходилось подвергаться сердечно-легочной реанимации или искусственной вентиляции легких, и они гораздо реже умирали в реанимационном отделении. Большинство таких больных обратились в хоспис. Они меньше страдали, сохранили больше физических способностей и могли лучше и дольше общаться с окружающими. Кроме того, через шесть месяцев после их смерти у членов их семей заметно реже наблюдалась устойчивая тяжелая депрессия. Иными словами, те больные, у которых был разговор по душам с врачом и которые смогли рассказать ему, чего они хотят на закате дней, гораздо чаще умирали мирно, контролируя ситуацию и избавляя родных от душевных мук.