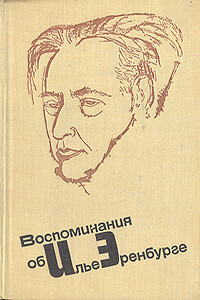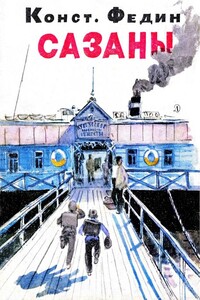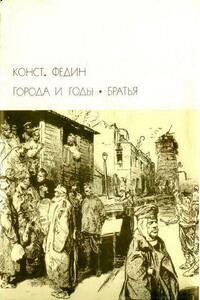Распахнуть все окна... Из дневников 1953-1955 гг. | страница 24
Это, без преувеличения, большой фильм, глубоко западающий в сердце. Жалко того, кто говорит, — «где же здесь Франция?». Печально за того, кто понимает, что это подлинная Франция, но не хочет или боится в этом признаться...
Черкасов после кино показал мне технику съемок кадров с героем-уродом: он стал на колени, вправил их в туфли, согнулся и зашагал по комнате, совершенно как коротконогий Тулуз-Лотрек на картине!..
14 августа. У памятника Гете — доска со стихотворением «Карлсбад», уже покрытая мхом, с немного выщербленными буквами. Списал стихотворение, вечером перевел, довольно удачно, — при полном отсутствии практики, — передал размер, ритм, и близко к подстрочнику. Испытал детское удовлетворение и решил подарить перевод Каверину на элегическую память о Карловых Варах.
17 августа. Читаю Дидро, его диалог с «Племянником Рамо». Можно пожалеть, что отмерла традиция этого классического жанра. Для нашей эпохи, требующей морали, автор диалога легче всего мог бы выступать в роли воспитателя; его противник — в сущности — он сам, но с обратной стороны. Поэтому мораль никогда не делается навязчиво-скучной, а вытекает из противоречивых воззрений своего времени.
Гораздо интереснее этой формальной особенности диалога сам предмет спора Дидро с циником Рамо и — прежде всего — в области эстетики. Поучительно, что 200 лет назад спор об искусстве ничем не отличался от наших споров. Мы топчемся на месте. Конечно, не одни мы, — то же происходит сейчас у французов: они повторяют зады.
Вчера говорил об этом с Кавериным, и мы согласились, что проблематика, например, теории «изящной» литературы была и во времена Софокла почти той же, что в канун французской революции, и на тот же лад варьируется теперь.
Читая Дидро, я только лучше уясняю себе нашу злободневность. При этом он мне дает несравненно больше питательного материала, нежели мои современники, уже в силу превосходства своей образованности... <...>
Если все же буду выступать на съезде, то одна из тем — историзм подхода к явлениям литературы. Главное — в изменениях, которые испытали на себе художники во второй четверти нашего века, за революционный период развития литературы, начиная с I-й мировой войны.
Неудача попыток хотя бы очерков по истории литературы, советской литературы объясняется тем, что наша критика описывает факты результативно: дается состояние литературы в тот или другой период, а надо изучать изменения от одного состояния к другому, переходы качественного характера. Положение это касается западных писателей в разной степени. Надо рассматривать качественное изменение творчества, например, Иог. Бехера — от экспрессионизма через возврат к гетевскому Sturm und Drang'y и через его же классицизм к социалистическому реализму. Другой пример — Л. Арагон: его путь от изысканной формы к романистике последнего времени. И т. д. Для советской литературы чрезвычайно важны 20-е годы — роль наследия, полученного нами от символизма, прозы ремизовской традиции (сказ, орнаментализм, симфонизм Белого etc.).