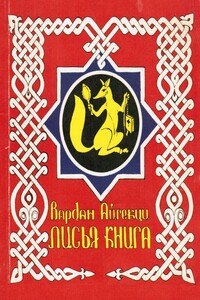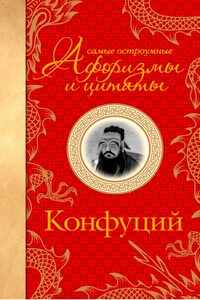Басни средневековой Армении | страница 17
Будет ли исторической натяжкой, если мы усмотрим какую-то перекличку мыслей и ощущений между тем, что говорил султан Санджар, и тем, как один из ширванских царевичей, Рузбэ, сын Афридуна, сына Бурзина, в 1206 г. сам занялся лепкой из воска модели и отливкой из бронзы замечательного по совершенству работы водолея в виде коровы-зебу и запечатлел свой труд надписью на водолее? Ведь и владетель богатейших поместий в различных концах Армении, парой (т. е. пробившийся в высшую знать благодаря своим богатствам) Сахмадин, купив себе целый городок, некогда владение и летнюю резиденцию армянских царей, построил себе громадный дворец в 1276 г., начертав на портале надпись, в которой он, не без гордости и похвальбы, заявляет, что он этот дворец «разбил (т. е. начертил) и соорудил сам, без мастера (или архитектора)».
Не был ли и труд, принятый на себя ширванским царевичем, потребовавший, вне всякого сомнения, длительного учения и опыта, и труд» принятый на себя хотя бы в целях похвальбы пароном Саhмадином, не пожалевшим на постройку дворца сорока тысяч золотых дукатов» попыткой показать, что они-то умеют делать то, что делают малые, что они-то не чуждаются труда как чего-то их недостойного, что они-то не могут быть уподоблены свинкам, пожирающим привезенное для них верблюжонком и осликом зерно, телкам, насмехающимся над волами, или волу, пытавшемуся скинуть с выи ярмо, волу, якобы забывшему, что «без дела невозможно жить в обществе».
Марр отмечал то обстоятельство, что наибольшее развитие басенного творчества, во всяком случае басенного собирательства, в Армении падает на XII–XIII вв, подчеркивая при этом, что совершенно аналогичное положение наблюдается в тот же период и в Западной Европе.
Это обстоятельство стоит в теснейшей связи с тем, что именно на XII–XIII вв. падает наибольший и наиболее яркий (в домонгольский период) расцвет городской жизни, городской торговли, ремесел для Ани и ряда других городов и наибольшее развитие торговли внешней, транзитной.
Город стал в XII в. не только соперником замка, феодального гнезда, в вопросах влияния на ход развития экономической жизни страны, но и начал становиться соперником других феодальных гнезд — монастырей, в вопросах влияния и воздействия на ход развития общественной идеологии.
Не замкнутые аудитории монастырских школ и семинарий, а обширные пространства соборных церквей и площади перед ними стали местом, где провозглашались с амвона или ступеней импоста обращенные к толпе призывы и разыгрывались бурные споры, остроты которым прибавляло в значительной мере и нередкое в то время переплетение вероисповедных признаков с классовыми.