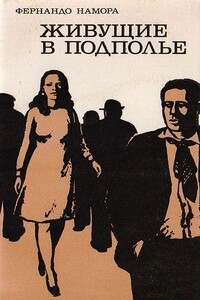Огонь в темной ночи | страница 18
Зе Мария нахмурился. Признание Нобреги его озадачило, вызвало непонятную меланхолию.
— А вы не преувеличиваете?
— Преувеличиваю?! О нет! Человек достаточно проницателен, чтобы определить первые признаки своей деградации, хотя скрывает это от других и обманывает самого себя. В день, когда плоть впервые перестает повиноваться лихорадочному жару желания… О молодость, мой милый! — И Карлос Нобрега воздел руки к потолку. — Молодость — единственное оправдание, которое есть у нас в жизни. Но молодость пренебрегает всеми проблемами, она перешагивает через них. Ах, Зе Мария, какие бы сомнения и неуверенность в завтрашнем дне ни терзали молодежь, она всегда будет огнем в самой темной ночи!
Зе Мария не мог оставаться равнодушным к этим пылким словам. Но, взглянув на порозовевшие щеки друга, на его горящие глаза, он решил, что вино воодушевило скульптора. Поэтому он безжалостно оборвал его:
— Глупости, дружище! Я променял бы мою нищую молодость на старость с увесистым кошельком.
Карлос Нобрега остановил грустный и внимательный взгляд на Зе Марии.
— Вы сами не понимаете, что говорите, — сухо сказал он. Однако, раскаиваясь в своей резкости, переменил тему разговора: — Так я покажу вам свои рисунки.
III
Дона Луз появилась наконец в столовой, неся на подносе тарелки с супом; она осуждающе посмотрела на Жулио (как он посмел, эдакий бесстыдник, явиться в пансион вместе с девушкой, которой уж, кажется, полагалось бы знать, что здесь ей не место) и заметила, что место Зе Марии пустует. Он опять решил остаться без обеда, чтобы никто не посмел торопить его с платой за пансион; только он забывал, что занимает также комнату в доме и к тому же носит такое ветхое белье, что ей приходится штопать его чуть ли не каждый день.
Людоед, алентежанец[2] с мускулатурой грузчика, получивший это прозвище за непримиримую вражду, которую он питал к представителям столь презренной зоологической разновидности, как «зулусы»[3], отрезал толстый ломоть хлеба и не без ехидства спросил:
— Вы видели, какая девушка сейчас отсюда вышла? Лакомый кусочек, не правда ли? Это ваша родственница, дона Луз?
— К счастью, я с ней незнакома, сеньор доктор.
Не успевал самый захудалый студентик сойти с поезда, доставившего его в университетский город, как его тут же начинали величать доктором. К этому обращению, символически приобщающему к высшей касте, прибегали чистильщики сапог, наперебой предлагавшие свои услуги, женщины, обитающие в трущобах университетского квартала, которые стирали ему белье и становились любовницами, и все остальные, зарившиеся на его кошелек. Титул доктора даровал студенту права, труднодостижимые для того, кто не мог похвастаться такой привилегией, точно речь шла о чистоте крови. И даже власти чаще всего снисходительно относились к дерзким выходкам коимбрской молодежи, считая их проявлением свойственного поколению легкомыслия. Однако в последнее время студенческая среда пополнялась уже не только исключительно за счет отпрысков дворянства или крупной буржуазии. В Коимбру приезжали теперь и дети неимущей интеллигенции, пролетариата и крестьянства. Университет перестал быть оплотом аристократов по происхождению или новоиспеченных богачей; теперь в него проникали также привычки, честолюбивые стремления, присущие социальным группам, прежде не имевшим доступа в Коимбру. Кое-кто сетовал, что, становясь более демократичным, университет утрачивает веками складывавшийся стереотип студента, бесшабашного гуляки и весельчака. Те, кто пришел в него теперь, были слишком серьезны. Поэтому горожане решили, что они уже в состоянии противостоять этим самонадеянным докторам. И если и не бросали им открытый вызов, то выражали свое презрение, не обращая на них ни малейшего внимания. Незаметно в городе наметилось расслоение: торговцы, промышленники и обедневшая знать превратились в обособленные касты.