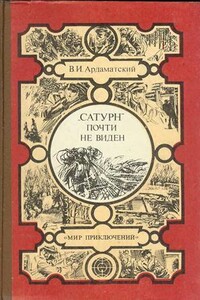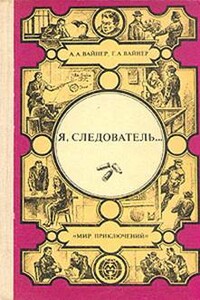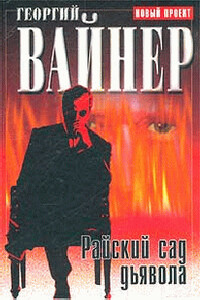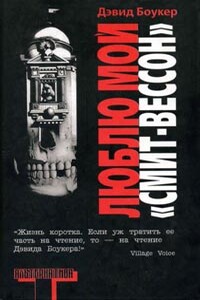Эра милосердия | страница 18
— Вот видишь, Шарапов, какую я тебе смешную историю рассказал… — Но голос у Жеглова был совсем невеселый, и лица его в сумраке полутемной лестницы было не видать.
Мы вышли из подъезда. Здесь все еще стояли зеваки, и Коля Тараскин говорил им вяло:
— Расходитесь, товарищи, расходитесь, ничего не произошло, расходитесь…
А слесарь Миляев, в краснофлотской шинели, покачиваясь слегка на своей деревяшке, водил перед носом Копырина черным сухим пальцем и доверительно объяснял:
— Я тебе точно говорю: в человеке самое главное — чтобы он был человечным…
Жеглов тряхнул головой, словно освобождаясь от воспоминания, пришедшего к нему на лестнице, и по тому, как он старательно не смотрел на меня, я понял, что он жалеет вроде бы о том, что разоткровенничался. И засмеялся он как-то резко и сердито, сказав шоферу:
— Слушай, Копырин, поскольку ты у нас самый человечный человек, то давай побыстрее отвези Шарапова с сержантом Синичкиной на Арбат в роддом. И мигом назад — в 61-е отделение милиции, это рядом, мы пешком дойдем. Я позвоню на Петровку, и мы вас там дождемся…
Синичкина вошла в автобус, я протянул ей ребенка. Жеглов придержал меня за плечо, шепнул на ухо:
— А к сержанту присмотрись! Девочка-то правильная! И адрес роддома запомни — может, еще самому понадобится…
Я почему-то смутился, я ведь на нее как на женщину и не посмотрел даже, милиционер и милиционер, их сейчас, девушек-милиционеров, больше половины управления. Вся постовая служба, считай, ими одними укомплектована.
«Фердинанд» тронулся, Жеглов помахал нам рукой. Синичкина, прижимая к себе ребенка, смотрела в зату— маненное дождем стекло. И лицо ее — круглое, нежное, почти детское — тоже было затуманено налетом прозрачной печали, легкой, как дымка, грусти. И я неожиданно подумал, что нехорошо разглядывать ее вот так, в упор, потому что от слов Жеглова ушло то простое и естественное удовольствие, с которым я смотрел давеча, когда она пеленала мальчика, на ее быстрые, ловкие руки. Но все равно смотрел, с жадностью и интересом. Хорошо бы поговорить с ней о чем-нибудь, но ни одной подходящей темы почему-то не подворачивалось. А она молчала.
— Вы почему так погрустнели? — наконец спросил я. Она посмотрела на меня, улыбнулась:
— Задумалась, кем станет этот человечище, когда вырастет…
— Генералом, — сказал я.
— Ну, необязательно. Может, он станет врачом, замечательным врачом, который будет спасать людей от болезней. Представляете, как здорово?