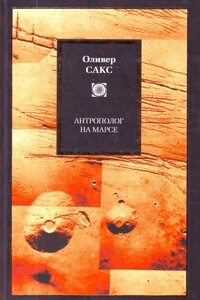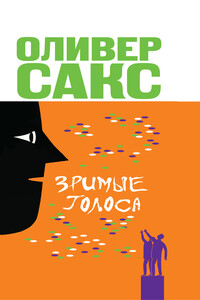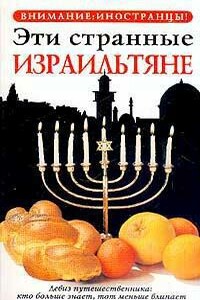Остров дальтоников | страница 73
Низким мелодичным голосом, не тронутым пока недугом, комиссар рассказал нам о своей жизни. Вначале он работал на скотоводческой ферме и был первым силачом в деревне, способным голыми руками гнуть подковы. (Его скрюченные и слегка дрожавшие руки до сих пор производили впечатление неимоверной силы; мне казалось, что комиссар и сейчас может голыми руками дробить камни.) Потом он был школьным учителем в местной школе, а затем, после войны, начал активно заниматься делами деревни, которые пришли в полное расстройство после японской оккупации. Приходилось сопротивляться и американизации, причем так, чтобы не прослыть отсталым, но при этом сохранить традиционный образ жизни, мифы и обычаи чаморро. В конце концов его избрали мэром. Первые симптомы болезни появились полтора года назад, сначала в виде странной неподвижности, потери спонтанности в действиях. Ему стало тяжело ходить, стоять, вообще совершать любые движения. Тело сделалось непослушным, словно перестав подчиняться воле комиссара. Члены семьи и друзья, знавшие его как энергичного, подвижного человека, сначала приняли это за первые признаки старости, естественное замедление темпа после многих лет активной и трудной жизни. Однако постепенно и им, и самому комиссару стало ясно, что это органическое заболевание, слишком хорошо знакомый островитянам бодиг. Эта пугающая обездвиженность развивалась с угрожающей быстротой; через год комиссар был уже не в состоянии подняться без посторонней помощи; встав, он не чувствовал тела и не контролировал позу, а иногда внезапно заваливался в сторону. Теперь при нем неотлучно находились зять и дочь — по крайней мере тогда, когда ему надо было встать и куда-нибудь пойти. Я подумал, что для него, вероятно, это было унизительно, но потом понял, что старик не чувствовал себя обузой в семье. Напротив, ему казалось нормальным, что члены семьи должны ему помогать; когда комиссар сам был молод, ему приходилось помогать другим — дяде, дедушке и двум соседям, которые страдали болезнью, которой теперь заболел и он сам. На лицах детей и в их поведении я не заметил и следа недовольства; помощь домочадцев была искренней и естественной, как дыхание.
Немного неуверенно я спросил, позволит ли он себя осмотреть. Я считал его человеком, облеченным авторитетом и властью, который может не захотеть, чтобы к нему прикасались. К тому же я не был знаком с местными обычаями: не отнесется ли комиссар к осмотру как к унижению? Может быть, он согласится на осмотр за закрытыми дверями, чтобы семья не видела? Комиссар, будто прочитав мои мысли, сказал: «Вы можете осмотреть меня здесь, в присутствии семьи».