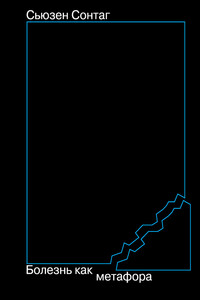Образцы безоглядной воли | страница 9
Вероятно, чем меньше предлагается вниманию, тем лучше его качество (оно менее искажено, менее рассеянно). Художник, очищенный безмолвием, вооруженный оскудевшим искусством, сможет приступить к преодолению удручающей избирательности внимания, неизбежно связанной с искажением опыта. В идеале он должен быть способен сосредоточиться на чем угодно.
Налицо постоянное стремление к меньшему. Но «меньшее» никогда не продвигается вперед так наглядно, как «большее».
В свете современного мифа, в котором искусство стремится стать «тотальным опытом», требующим тотального внимания, стратегия обеднения и редукции указывает на самую возвышенную амбицию, какую только может иметь искусство. Под маской безграничной скромности, едва ли не деградации, скрывается дерзкое мирское богохульство: стремление достичь ничем не стесненного, неизбирательного, тотального, «божественного» сознания.
Язык представляется наиболее подходящей метафорой для выражения промежуточного характера произведений искусства и занятия искусством. С одной стороны, речь — это нематериальное средство (сопоставимое, скажем, с образами) и в то же время разновидность человеческой деятельности, с явной ставкой на трансцендентность, на выход за пределы единичного и случайного (все слова, будучи обобщениями, лишь приблизительно основаны на частностях или ссылаются на них). С другой стороны, язык — это самый грязный, самый зараженный, самый истощенный из всех материалов, из которых сделано искусство.
Двоякий характер языка, его отвлеченность и его «выпадение» в историю, представляют собой как бы микрокосм злосчастного современного искусства. Искусство так далеко зашло в лабиринт трансцендентности, что художник вряд ли обратится вспять, если только не по причине некоей сокрушающей, карательной «культурной революции». Но в то же время искусство терпит бедствие в бурных водах секулярного исторического сознания, которое некогда казалось высшим достижением европейской мысли. Немногим более чем за два века историческое сознание превратилось из духа освобождения, из символа открытых дверей, из благословенного просвещения в ношу самосознания, почти неподъемную. Для художника едва ли возможно написать хоть одно слово (создать образ или сделать жест), которые не напомнили бы ему о чем-то уже достигнутом.
Вспомним Ницше: «Наше преимущество: мы живем в век сопоставлений, мы можем проверять и сличать так и столько, сколько и как никогда еще не проверяли и не сличали; мы есть самосознание истории вообще… Мы наслаждаемся иначе, мы страдаем иначе: сопоставление всего неимоверно разнообразного есть наинасущнейшая деятельность наших инстинктов…»