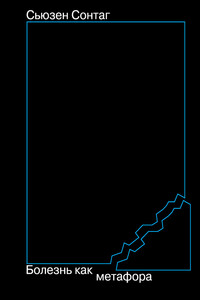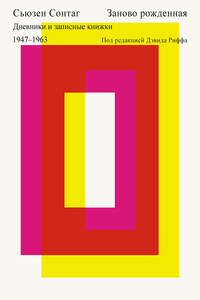Образцы безоглядной воли | страница 63
В отличие от неумолимого элитиста Чорана, Кейдж видит мир как полностью демократическое пространство духа, пространство «естественной активности», в котором «общепринято, что все чисто и ничего грязного нет». В отличие от Чорана с его барочными мерками хорошего и дурного вкуса в области интеллекта и морали, Кейдж держится мнения, что таких вещей, как хороший и дурной вкус, не существует. Опять-таки в отличие от чорановских взглядов на человеческие ошибки, падения и возможность искупить содеянное, Кейдж считает, что можно действовать безошибочно, если такую возможность признает за собой сам человек. «Ошибка — это вымысел, а не реальность. В музыке не будет ошибок, если мысль не порабощена причиной и следствием. В любой другой музыке ошибки неизбежны. Иными словами, пропасти между духом и материей нет». И еще, из той же книги «Тишина»: «Как можно говорить об ошибке, если идти от принципа „раз и навсегда“»? И наконец, в отличие от чорановской тяги к бесконечной пластичности и гибкости разума в его поисках настоящей опоры, надежного места в предательском мире, Кейдж предлагает нам мир, где о том, чтобы поступать иначе или быть другим, нет даже речи. «Думать, будто ты не здесь, а где-то еще, — пишет Кейдж, — значит только попусту раздражаться. Мы тут и сейчас».
Что становится при таком сравнении совершенно ясно, так это насколько Чоран верует в волю и в ее способность преобразить мир. Сравним со словами Кейджа: «Стоит встать в позицию ничегонеделания, и все преображается само по себе». Какие разные выводы можно сделать из коренного отрицания истории, опять-таки видно, если сопоставить Чорана с Кейджем, который пишет: «Конечно, быть, и быть в настоящем. Повторение? Только если мы решили, что оно написано нам на роду. Если нет, мир свободен, и мы тоже».
Читая Чорана, понимаешь, до какой степени он связан догмами исторического сознания, с какой неотвратимостью снова и снова воспроизводит его нормы, сколько бы ни пытался их преодолеть. Мысль Чорана с неизбежностью цепенеет на полпути между мучительным принятием этих норм и подлинной их переоценкой. Но если говорить об однозначной переоценке, скорее стоит обратиться к таким мыслителям, как Кейдж, которым — благодаря духовной мощи или по духовной бесчувственности, это уже другой вопрос — под силу бросить за борт большую часть унаследованных мук и сложностей западной цивилизации. Пылкие, напряженно-полемические рассуждения Чорана блестяще подытоживают потребности европейского разума на стадии распада, но не дают другого утешения, кроме неоспоримых радостей мысли. Впрочем, вряд ли Чоран думает об утешении. Его задача — диагноз. А ищущим утешения, вероятно, стоило бы поступиться гордостью многого знания и острого чувства — нашей местной гордостью, которая стала нам теперь не по средствам.