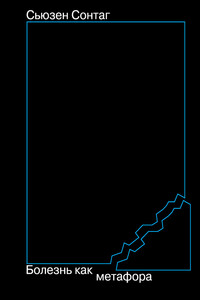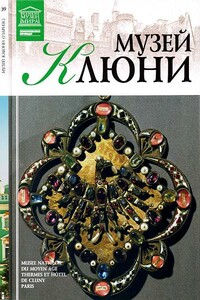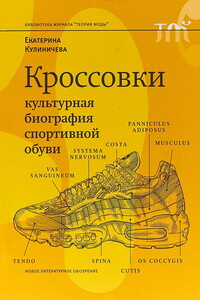Образцы безоглядной воли | страница 50
И тем не менее демона исторического сознания не перехитрить, попросту обратив смертоносный исторический взгляд на него самого. Как ни грустно, длинный ряд исчерпанных (разоблаченных и дискредитированных хоть разумом, хоть историей) возможностей, к каковым нынешний человек готов причислить и себя, кажется, не свести всего лишь к мыслительной «установке», от которой легко избавиться, попросту переведя мысль на другое. Лучшее из того, что надумано и создано Западом за последние сто пятьдесят лет, бесспорно может показаться кому-то самым энергичным, самым содержательным, самым тонким, самым захватывающим и самым подлинным опытом на протяжении всей человеческой истории. И тем не менее столь же бесспорный плод всей этой одаренности — сегодняшнее чувство, что мы стоим на руинах разума, на краю развалин истории и самого человека. (Мыслю, следовательно обречен.) Время новых коллективных озарений благополучно осталось в прошлом: на нынешний день все великие умы и конченые тупицы, глупейшие и мудрейшие — так или иначе высказались. Однако нужда отдельного человека в духовной опоре никогда еще не была такой острой. Sauve qui peut[10].
Расцвет исторического сознания, скорее всего, связан с крахом почтенного предприятия по созиданию философских систем, последовавшим в начале XIX века. После греков философия (рука об руку с религией или на правах противостоящей ей светской мудрости) была по большей части коллективным, сверхличным образом мира. Стремясь — на разных эпистемологических и онтологических основаниях — дать картину существующего, философия под эгидой таких понятий, как порядок, гармония, ясность, умопостигаемость и согласованность, внушала вместе с тем скрытые и окрашенные будущим представления о должном. Однако долголетие подобных коллективных и безличных образов мира зависело от философских постулатов, которые приходилось формулировать так, чтобы обеспечить им множество приложений и толкований, но защитить от любых случайных и непредвиденных разоблачений. Отказавшись от преимуществ мифа, имевшего в запасе утонченнейшие повествовательные способы объяснять перемены и понятийные парадоксы, философии пришлось развить собственную риторическую технику — абстрагирование. Вот на этом абстрактном, вневременном языке с его претензиями описать отвлеченные от конкретики, «всеобщие» и устойчивые формы, лежащие в основе нашего переменчивого мира, и покоился во все времена авторитет философии. Больше того, сама возможность объективных, доступных формализации представлений о бытии и познании, предложенных традиционной философией, зависела от всякий раз особых взаимосвязей между извечными структурами с одной стороны и сдвигами в человеческом опыте — с другой: главное место тут принадлежало «природе», производное — изменению. Но подобная расстановка сил была опрокинута — и, может быть, насовсем — в эпоху, завершившуюся Французской революцией, когда «история» в конце концов потеснила жавшуюся рядом «природу» и взяла лидерство на себя.