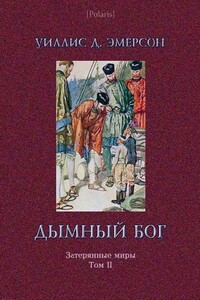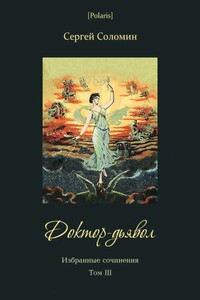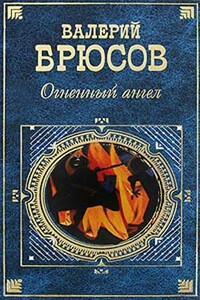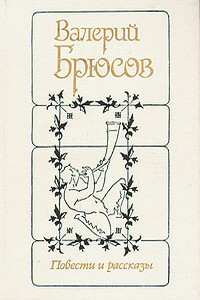Колдовской цветок | страница 10
Дед перекрестился:
— Ну-ко, благослови Христос, — и как-то по особому, с хитринкой улыбаясь, стал разводить костер.
— Вот они, нечистики-то… Чуешь?.. Ишь, как я его из ружья-то ожег подходяшше.
В двери зияла пробитая пулей дыра.
— Это ураган… — заметил я.
Дед круто обернулся ко мне, выпрямился, ударившись головой о потолок, и зло крикнул:
— Ураган?!.. Как не ураган… Много ты смыслишь… Вот пойдем-ка по дрова.
Мы вышли. Тайга не шелохнется. Полный месяц в мутно-белом кругу высоко стоял над тайгою. Снег на полянке переливался алмазами, и кругом была жуткая тишина.
— Ну, где ж тебе ураган? А?.. — подступал ко мне дед.
— А видишь, как запорошило тропу…
— Тропу-у-у?!. Толкуй слепой с подлекарем… Вот те и тропу… Тащи дрова-то… Умник!
Вновь засиял костер. Мы вымели набившийся в зимовье снег и стали укладываться спать.
— Это оттого, что я маху дал, забыл дверь окстить.
И дедушка Изот залез на нары, закрестил торжественно дымовую продушину, потом стал крестить дверь, шепча какие-то тайные слова и сплевывая через левое плечо.
Была глухая полночь. Меня одолевала дрема. Я засыпал под раскатисто-плавный голос деда:
— Вот так же лег я, не поблагословившись, в зимовье одном, а там, быдто, блазнишо, значит, по ночам рыхало… Да-а-а…
Всю ночь мучили меня страшные сны: то я филином летал над тайгою, то боролся с медведем, то нырял на дно реки за колдовским цветком.
Дмитрий Соловьев
СМЕРТЬ ШАМАНА
Мрачно и неприветливо выглядит амурская тайга позднею осенью. Пожелтела и осыпалась мягкая хвоя с высоких, стройных лиственниц, заросли молодых кустарников стали ажурными и прозрачными настолько, что совершенно перестали скрывать не только пугливых, грациозных коз, но даже маленьких зверьков и птиц. Печально склонилась к земле высокая, густая трава, покрывавшая летом роскошным зеленым ковром кочковатые, болотистые луга: подрезали траву ясные морозные ночи, одевающие белым пологом инея всю зелень. Торопливо, стая за стаей, звеня крыльями, неслись к югу утки, торопясь спастись от надвигающейся зимы, и часто из поднебесья доносилось мелодичное, щемящее душу сладкой тоской гоготание гусей.
В синеющей дали, там, где неясно рисуются легкие контуры высоких сопок, затрубил изюбрь[3], вызывая на бой соперника, и, заслышав ответный голос, мчится, очертя голову, через камни и бурелом, не зная о том, что впереди его ждет верная смерть от пули притаившегося за деревом манегра[4], который при помощи деревянной трубы удачно подманил ослепленного страстью и ревностью зверя.