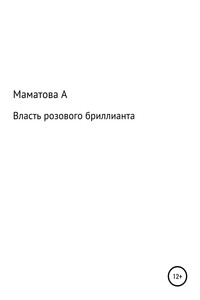Убийство Михоэлса | страница 85
Так старался читать текст Эпштейн. Так старались его читать Михоэлс, Фефер и Шимелиович.
Кроме них, в кабинете ответственного секретаря ЕАК не было никого. И все три дня никого не впускали. Заходила только секретарша, приносила крепкий чай и черный кофе для Михоэлса.
Михоэлс первым закончил чтение. Снял очки в тяжелой роговой оправе, вечно сползавшие на кончик его орлино-утиного носа, сунул их в нагрудный карман пиджака. Прохромал, опираясь на черную трость с резной ручкой, к столу Эпштейна, положил листки, вернулся на прежнее место, к мутному окну. Закурил «Казбек». Ждал, когда все дочитают. Дочитали. Повернулись к Михоэлсу. Смотрели. Эпштейн — как на цензора Главлита. Шимелиович — как на нового пациента с неизвестной болезнью. Фефер — с высоты своего роста словно бы снисходительно. Но на самом деле не снисходительно. Нет, как угодно, но только не снисходительно. Не тот был момент.
Михоэлс поскреб лысину. Жест был актерским, крупным. Это у него уже было в крови. Это был не жест — поступок. Акт. На публике каждое его движение было актом.
Как у Сталина.
— Вспомнился анекдот, — проговорил Михоэлс. Помолчал, словно раздумывая, стоит ли рассказывать. Решил — стоит. И продолжал: — Сидят: мальчик, его репетитор и отец мальчика. Учитель спрашивает: «Скажи, деточка, сколько будет трижды пять?» Мальчик быстро говорит: «Шестнадцать». Смотрит на репетитора. «Нет? Сто. Нет? Сорок четыре. Шестьдесят. Восемнадцать. Двадцать шесть. Девяносто один. Двести. Тоже нет?» Репетитор убит. А отец — в полном восторге. «Не угадал, конечно. Но зато как вертелся!..»
Никто не улыбнулся.
— На этом вопросе многие уже вертелись, — продолжал Михоэлс. — Пришла и наша очередь… Что я могу сказать?.. Текст-то жалкий, друзья мои. Я даже по-другому скажу: холуйский.
Шимелиович насупился. Первый вариант обращения писал он. Как большой специалист в области писания отношений, ходатайств и других казенных бумаг. За два с половиной десятка лет в качестве главврача Боткинской набил руку. И хотя от его первоначального текста почти ничего не осталось, он почувствовал себя уязвленным.
— Не делайте морду лица колодкой, — попросил Михоэлс. — Вы ни при чем. И никто из нас ни при чем. Если бы этот текст писали Перец, Галкин и Квитко, он был бы в сути своей таким же. Река сама выбирает русло. Мы три дня пытались пустить нашу реку туда и сюда. Вот наша река и нашла русло. Можно по-другому сказать. Когда мы работаем в театре над пьесой, мы стремимся, чтобы слова роли полностью соответствовали характеру героя. Вы, Ицик, замечательно выступили на Первом съезде Союза писателей. Насчет горбатых людей. Напомните, как вы сказали.