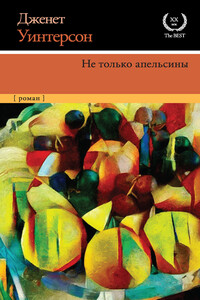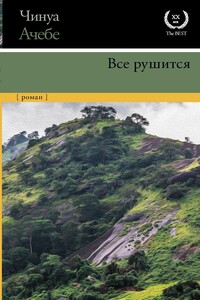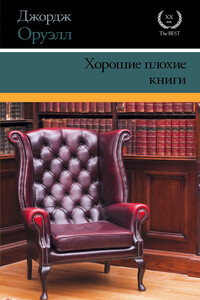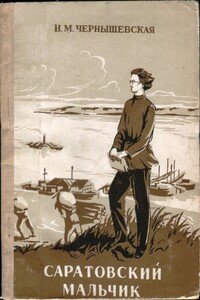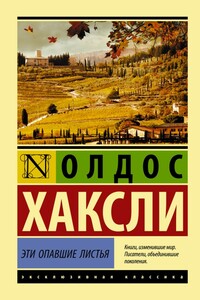Комната Джованни. Если Бийл-стрит могла бы заговорить | страница 53
Ты все время просишь прислать денег и, наверно, считаешь меня скрягой. Я не пытаюсь взять тебя измором, и знай, если ты в чем-то действительно будешь нуждаться, я первый приду тебе на помощь. Однако думаю, что окажу тебе медвежью услугу, если дам потратить те небольшие деньги, что у тебя остались. Хочешь вернуться к пустому корыту? Что ты там, черт возьми, делаешь? Расскажи мне, старику, а? Можешь не верить, но я тоже был когда-то молод.
Дальше отец рассказывал, как поживает мачеха, которая тоже хочет видеть меня, сообщал, что поделывают наши общие друзья. Чувствовалось, что мое долгое отсутствие начинает его пугать. Он не понимал, в чем дело. У него были, конечно, некоторые подозрения, которые с каждым днем становились все мрачнее и туманнее, но он не сумел бы облечь их в слова, даже если бы осмелился. Вопроса, который мучил его, отец в письме не задавал, не делал и связанного с ним предложения: Тут замешана женщина? Привези ее к нам. Неважно, кто она. Привези ее, и я помогу вам устроиться. Но он не рискнул задать свой вопрос, потому что не вынес бы отрицательного ответа. Такой ответ показал бы, как разошлись наши пути. Я сложил письмо, засунул его в задний карман и посмотрел на широкий, залитый солнцем парижский бульвар.
По бульвару шел матрос в белой форме, шагал он забавно, как большинство моряков, – вразвалочку, и вид у него был такой деловой, как будто ему предстояло сделать кучу дел за короткое время. Я уставился на него, почти не отдавая себе в этом отчета, и только понимал, что хотел бы оказаться на его месте. Казалось, – и это было необъяснимо, – что таким молодым я никогда не был, таким белокурым и красивым тоже, а мужественность его облика была абсолютно естественна. Увидев его, я почему-то подумал о доме – возможно, дом – не жилище, а непременное условие существования. Я знал, как он выпивает, как держится с друзьями, как тщетно борется с невзгодами и женщинами. Интересно, был когда-нибудь таким мой отец или я? Нет, это невозможно, ведь матрос уверенно шагал по бульвару, словно сноп света, возникший ниоткуда и никем и ничем не связанный. Когда мы поравнялись, он, словно увидев в моих глазах смятение и панику, презрительно бросил на меня бесстыдный, понимающий взгляд, каким, возможно, несколько часов назад смотрел на безвкусно разодетую нимфоманку или проститутку, пытавшуюся убедить его, что она порядочная женщина. И продлись этот контакт еще немного, не сомневаюсь, что красавец-матрос изрек бы что-нибудь вульгарное, вроде: «Привет, милашка! А я тебя знаю». Я торопливо, с каменным лицом прошел мимо, чувствуя, что заливаюсь краской, а сердце бешено колотится в груди. Матрос застиг меня врасплох, ведь я думал совсем не о нем, а о письме в кармане, думал о Гелле и Джованни. Я перешел на другую сторону, боясь оглянуться, и раздумывал, что во мне могло вызвать в нем такое презрение. Я был достаточно взрослым и знал, что дело не в моей походке, не в жестикуляции или голосе, которого, кстати, он не слышал. Тут было что-то другое, но что? Об этом я боялся даже думать. Это было все равно что смотреть на яркое солнце. Я торопливо шагал, не осмеливаясь поднять глаза на прохожих – будь то мужчины или женщины, потому что понял: в моем незащищенном взгляде матрос прочел зависть и желание. Я часто видел такое желание в глазах Жака, и оно вызывало у меня то же презрение, с каким посмотрел на меня матрос. Но будь я способен на любовь и прочти это матрос в моих глазах, ничего бы не изменилось: ведь нежные чувства к молодым людям, которые я обречен испытывать, вызывают еще больший ужас, чем похоть.