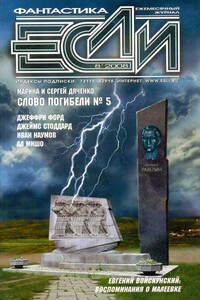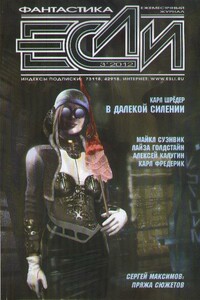Тени на снегу | страница 7
Пересказ сюжетных перипетий завел бы меня слишком в сторону; тем более, сегодня оценки неизбежно будут отличаться от сделанных ранее... Но если вкратце – это история двух антагонистичных миров. Планеты, «погрязшей» в вещной роскоши и бездужовности (результат ничем не ограниченной свободы предпринимательства), – и ее спутника. На суровую, безжизненную «луну» за столетие до описываемых событий переселилась колония утопистов-анархистов, провозгласивших в своей коммуне всеобщее равенство и отказ от частной собственности... (Надеюсь, понятно теперь, почему разговор об «Обездоленных» предстоял бы долгий и во всех отношениях непростой?)
Но это все – схема. Литературой делает книгу образ Шевека, в котором чем дальше, тем более узнаешь черты покойного Андрея Дмитриевича Сахарова. Правда, как сообщила мне сама писательница, в ее намерения не входило проводить аналогии с современностью – да и не было еще в 1973 году, когда создавался роман, имя академика столь широко известно. Однако чуть позже образ ученого, ставшего на путь активной общественной деятельности, диссидентства (для начала, следуя принципам своей науки, он, естественно, подверг сомнению основы, систему), пришелся удивительно ко времени.
Шевека многое не устраивает в мире, идеалы которого впитаны им с малолетства. Чтобы определить для себя самого возможный вектор перемен, ученый первым из сограждан разрушает вековой «железный занавес» и отправляется на планету-метрополию. А посмотрев, возвращается – изменившийся, но во многом изменив и мир, который посетил.
Ведь истинный путь, по Урсуле Ле Гуин, «это всегда возвращение». В том числе – к священным словам и идеалам, еще вчера казавшимся благородными и исполненными высшего смысла, звавшим вперед и укреплявшим в испытаниях. Однако время успело нанести позолоту святости и на них, исключив в будущем всякую критику и в корне «зарубив» саму мысль о каких-то изменениях. Так родилась ложь...
Критики, мне кажется, поспешили, наградив роман ярлыком «левацко-анархическая утопия». Влияние идей Кропоткина и его американского сподвижника Пола Гудмена на Урсулу Ле Гуин несомненно, но ее собственный творческий Путь не столь прост и прямолинеен, как «политическая агитка», которую разглядели в романе. Этот путь петляет, извивается, пересекает и повторяет сам себя – после чего резко уходит в сторону. И на нем полным-полно завалов и разных хитроумных ловушек.
Но поразительно, что Урсула Ле Гуин продолжает двигаться по нему вперед, не страшась «завалов» и не поддаваясь соблазнам проторенной дорожки. И непременно возвращается – к самому началу. За последние два десятилетия она перепробовала многое – с разной степенью успеха.