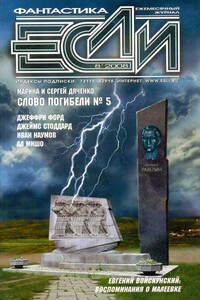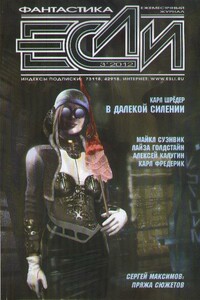Больше чем фантаст | страница 13
Просто? Тривиально? Было бы просто, если бы писатель ограничился сюжетом, скорее смахивающим на «роман ужасов», нежели на science fiction. Старджона, судя по всему, в большей мере волновали те же самые навязчивые проблемы, которые он столь блистательно ставил и решал в своих рассказах. Что такое человек – и человеческое? Должно ли второе обязательно привязываться в нашем восприятии к первому – биологическому виду homo sapiens? Или большую роль играет общение с людьми, проживание в человеческом сообществе...
Из оставшихся романов остановлюсь еще на двух[6].
Безусловно лучшим и самым известным считается второй по счету – «Больше чем люди» (1953), «выросший» из рассказа «А с младенцем будет трое» (1952) и принесший автору в ту пору самую престижную Международную премию по фантастике (International Fantasy Award). Однако, во-первых, оригинальное название премии не должно вводить в заблуждение – роман Старджона представляет собой классическую научную фантастику! – а во-вторых, нет оснований сомневаться: опубликуй он его тремя годами позже, когда была учреждена премия «Хьюго», – и та по праву досталась бы Старджону.
Роман является классическим развитием популярной в фантастике идеи «коллективного разума», как нового эволюционного качества, несводимого к сумме составляющих его частей (идея, близкая взглядам т. н. гештальтпсихологии, особенно модной в 20–30-е годы). И с той же классической ясностью в романе сформулированы основные правила игры – точнее, выживания – для мутанта-экстрасенса, живущего в мире «нормальных» людей. Впоследствие находками Старджона вовсю и часто без зазрения совести пользовались многие его коллеги; порой – даже более изысканно, нежели он.
Но он был одним из первых, если не самым первым. И в этом все дело.
В романе описано необычное сообщество, «гештальт-организм», составленный пятеркой весьма необычных детей. Один из них – своего рода «живой компьютер», двое других обладают способностью к телепортации, четвертый – к телекинезу, а пятый – телепат и организующее целое. Однако главная «бомба», заложенная автором под ожидания доверчивого читателя, – это индивидуальные составляющие коллективного супермена, Homo gestalt – иначе говоря, сами дети. А они-то – по отдельности – не то что не «супердети», а пуще того – социальные парии, уроды! Обреченные, как минимум, на одиночество и неприкаянность. Клинический идиот, социопат, две немые девушки, не по годам развитый искусный манипулятор; и самый беспомощный из всех (несчастным его вряд ли назовешь, ибо он просто не понимает, кто он и что с ним) – младенец-монголоид с синдромом Дауна...