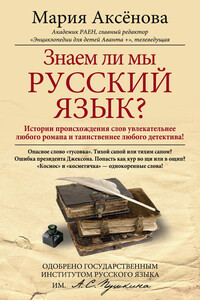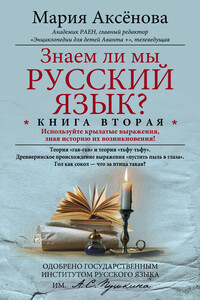Знаем ли мы все о классиках мировой литературы? | страница 62
Служба его складывалась весьма успешно: чин подполковника, несколько орденов, избрание членом Императорского Русского географического общества… Но тут случился Октябрьский переворот. И новая власть, хотя Владимир Клавдиевич заявил о своей к ней лояльности, не очень жаловала «белого полковника», заставив его ежемесячно отмечаться в спецкомендатуре ВЧК. Возможно, и посадила бы или, того хуже, к стенке поставила, не считаясь с его былыми заслугами, если бы не восторженная оценка арсеньевского «Дерсу Узала» Максимом Горьким.
В 20-х годах вышли его повести, рассказы и очерки, тоже доброжелательно встреченные читателями и критиками. Его вновь приняли на службу и вновь послали в экспедиции. Из одной из них, в низовья Амура, он привёз вместе с собранными богатыми данными воспаление лёгких, от которого и скончался 4 сентября 1930 года, не дожив недели до своего 58-летия. Его первая жена вспоминала: «Весь Владивосток гудел, что его убили. Убили японцы за то, что он не хотел быть японским шпионом. Убили немцы потому, что он не хотел быть немецким шпионом. И наконец, его убили чекисты за то, что он был белый генерал». Всего на Дальнем Востоке Владимир Клавдиевич провёл тридцать лет, совершил двенадцать больших экспедиций (не считая различного рода командировок) в Приморье, побывал и на Камчатке, и на Курилах, во многом являясь их первооткрывателем…
Произведениям Арсеньева повезло больше: советская власть неплохо на них зарабатывала, печатая большими тиражами в СССР и за границей. А самая известная повесть «Дерсу У зала» выдержала почти сто изданий! Великий Акира Куросава в 1975 году снял по ней одноимённый фильм (совместная работа СССР и Японии), получивший премию «Оскар». Главные роли исполнили: Юрий Соломин (Арсеньев) и Максим Мунзук (Дерсу Узала). Именем Арсеньева названы приток Уссури, две горы в Сихотэ-Алине и на острове Парамушир, вулкан на Камчатке, город и посёлок.
Наш человек в Харбине
В отличие, к примеру, от английских писателей, часто и плодотворно сотрудничающих с разведкой и контрразведкой, наши литераторы сами не бежали в объятия чекистов и жандармов. Но в нашей литературе есть группа разведчиков, создавших высокохудожественные литературные произведения. Первой в этой небольшой группе, стоящей в советской/российской литературе несколько особняком, принято называть Зою Ивановну Воскресенскую (1907–1992).
В биографии этой удивительной женщины вначале было дело, а уж потом слово. Делом была разведка. Зоя Ивановна (хотя так ли её зовут на самом деле?) более четверти века под псевдонимами Рыбкина, Ярцева и другими работала во внешней разведке в Харбине, в довоенных Латвии и Эстонии, была резидентом в Финляндии и Швеции, дослужилась до полковничьего звания и возглавляла отдел в КГБ. В 1953 году разведчица была уволена из центрального аппарата и по её собственной просьбе переведена на службу в Воркуту в качестве начальника спецчасти одного из лагерей для заключенных. В это время Воскресенская приложила немало усилий для реабилитации незаконно осуждённых людей.