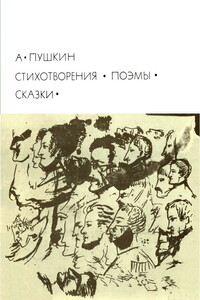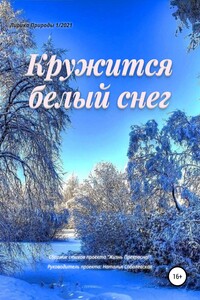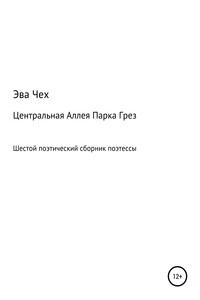Античные гимны | страница 41
Отметим еще один интересный художественно-философский образ в гимнах Прокла — образ души, странствующей по миру.
Души и род человеческий изображаются Проклом «блуждающими» по земле (III 3; IV 10—11; VII 32). Они «ниспали» на берег рождений (III 9), «упавши» в волны холодного человеческого рода (IV 10—11). Они «устали» на путях странствий (VII—12), попали в мрачное ущелье жизни (IV), отягчены злыми болезнями (VI 5). Душа здесь то плывет по жизни с помощью Афины, посылающей тихие ветры (VII 47), то мечтает о счастливой пристани (VI 11 — 12; VII 32), ибо кормчими мудрости являются боги (IV 1), которые, и это очень характерно для Прокла, именно с помощью света книжного знания рассеивают туман заблуждений (5—6). Здесь же — душа в виде путника, стремящегося по тропе, несущей его ввысь (14), взыскующего сияющего «пути» жизни (4), который указуют боти (VI 8). Боги «влекут» души людей, пробуждая и очищая их таинствами (7), а «стрекалами» страстей заставляя человека жаждать «озаренных» огнем небесных чертогов (115—6). Богиня Афина открывает перед человеком «врата» (pyleönas, VII 7), через которые пролегает божественная тропа мудрости. Итак, душа, как усталый путник, по крутой тропе поднимается к воротам знания и, как блуждающий мореплаватель, достигает, наконец, счастливой пристани вечной жизни.
Этот образ многострадального путника восходит к одному из своих архетипов, а именно к гомеровскому Одиссею, не раз интерпретированному философской традицией, идущей от софистов и киников через стоицизм к неоплатонизму.
Знаменитое толкование Гомера Порфирием в трактате «О пещере нимф» завершается образом Одиссея-странника, который «освобождается от чувственной жизни то борясь со страстями, то завораживая и обманывая их и всячески изменяясь сообразно с ними, чтобы, сбросив рубища, низвергнуть страсти, не избавляясь попросту от страданий» (О пещере нимф 35).
В гимнах (и это следует особенно подчеркнуть) на символической картине горестной судьбы человеческого рода и отдельного человека покоится отблеск какой-то личной заинтересованности философа-поэта, интимности, неясной тоски — тех чувств, что являют читателю особый жизненный философский и теургический опыт самого Прокла. Здесь, внутри этой космической целостности, с ее оправданной гармонией света и мрака надэфирных высей и бездн земного бытия, вполне ощутимо личностное начало.
Это личностное начало еще в архаические времена было характерно для непосредственной ритуальной коммуникации молящегося и его божественного покровителя, что засвидетельствовано в многочисленных молитвах гомеровских героев «Илиады» и «Одиссеи». Однако впоследствии зов молящегося разрастается в похвалу призываемого божества, от которого исходит удовлетворение просьбы в наибольшей ее полноте. И личностное начало меркнет, уступая место развернутой в эпическом духе «биографии» божества, характерной уже не для молитвы, а для гимна как художественно оформленного жанра. Личная просьба молящего о даровании помощи отодвигается в гимне на второй план. Отсюда началом гимна и становится зачастую инвокация с приветственными возгласами, так называемыми хайретизмами, взыванием, анаклезами к многоименному высшему существу; в середине — жизнеописание божества с восхвалением его подвигов и чудес, им творимых, и, наконец, замыкает гимн личная просьба молящего, обрамленная хайретизмами.