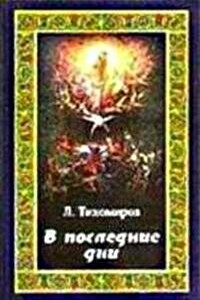Тени прошлого. Воспоминания | страница 8
Революция во времена народовольчества была, если так можно сказать, более «честна» по отношению к своему Отечеству и не имела еще на своем знамени лозунга: «Чем хуже, тем лучше». Вероятно, поэтому с революционной средой могли порвать отношения такие люди, как Л. А. Тихомиров или Ю. Н. Говоруха-Отрок. И хотя в те годы революция еще не была способна сломать Империю, Л. А. Тихомиров уже видел потенциальные ее сатанинские глубины. После перехода в 1888 году на сторону исторической России он ощущал мистически-реально приближение революциошюго безумия и всеми своими силами вел борьбу с этим направлением.
Побывав в водовороте революции, в самой середине его, и чуть духовно не сломавшись под ее давлением, он всю оставшуюся жизнь чувствовал страшное дыхание этого чудовища. Причем это ощущение его не сковывало, не лишало сил, а лишь мистически подстегивало к борьбе, к противодействию, к предостережению. Возможность революции представлялась ему настолько реальной, что окружающие зачастую сомневались в адекватности его оценки ситуации[9].
Тихомиров глубоко религиозно переживал надвигавшуюся революцию — так же как переживал бы приближение будущего побывавший в нем и знавший, что трагедии этого будущего не минуют его жизни. «Все эти страдания, — писал Вл. Маевский, — пережитого духовного и жизненного перелома оставили свой неизгладимый след и в душевном настроении, и па внешнем облике Льва Александровича.
Никогда, например, не видели его веселым, смеющимся, беззаботным… Если среди веселой беседы приятелей и набегала на его сосредоточенное выражение лица едва заметная улыбка, то она тотчас же и слетала. Волосы упрямо торчали, брови хмуро сдвигались, со лба и лица не сходили борозды напряженных дум и тяжелых переживаний. Вся фигура Льва Александровича — нервная, худая, с явными следами переутомления (Л. А. Тихомиров много лет [был] выпускающим редактором «Московских ведомостей»), диетического недоедания и переутомления — отражала на себе неиссякаемую заботу и тревогу души. Он производил впечатление человека, ежечасно, ежеминутно боящегося и ожидающего какого-то безвестного и тайного удара»[10].
Эта чувствительность его души в сочетании с пытливостью ума, всегда живо реагировавшего на окружающее, создала тот тип мыслителя-энциклопедиста, который одинаково успешно мог трудиться в различных сферах…
Мыслители мыслителям рознь. Есть мыслители партикулярные, для которых идеи не есть «кровь» их жизни, а лишь холодные умственные штудии. А есть мыслители, как бы являющие собой бескорыстных идейных доноров для нации, отдающие с каждой своей книгой, брошюрой или статьей часть своей «крови», жизни. Это — подвижники, жертвователи; только от них способна зажечься в сердце другого та вера в идеал, о котором они проповедуют.