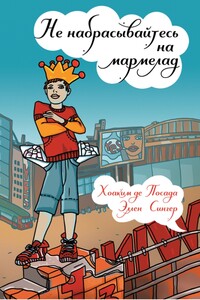Нарушения развития и социальная адаптация | страница 49
В качестве критериев клинического прогноза социально-трудовой адаптации Д. Е. Мелеховым (1970) выделяются не только степень интеллектуального дефекта (дебильность, имбецильность), но и особенности личности, под которыми подразумеваются «эмоциональная уравновешенность, целенаправленная активность, степень ее устойчивости, выносливость, характер интересов и побуждений, приспособление к требованиям окружающей среды и т. д.» (с. 25). Все перечисленные качества, разумеется, имеют отношение к личности, но лишь в том смысле, что она может являться их носителем, а при положительном их знаке они могут рассматриваться как показатель благополучной социальной адаптации индивида к требованиям общества, называемого окружающей средой. Однако ни одно из этих качеств, за исключением «характера побуждений и интересов», не может быть отнесено к устойчивым, «стержневым» характеристикам личности, придающим ее социальному поведению черты относительной стабильности. Почти все эти качества легко подвергаются изменениям, которые могут быть связаны как с состояниями органической декомпенсации, так и с негативными влияниями среды, в том числе и с ситуационными. Вместе с тем, если вспомнить, что речь в данном случае идет о достаточно выраженных, отчетливо «органических» формах умственной отсталости, то подобные характеристики при относительной устойчивости их проявления правомерно могут рассматриваться как вполне надежные критерии социальной адаптации или как факторы, пригодные для прогноза. Но квалифицировать их все же следует не как личностные свойства, а, скорее, как психологические и психофизиологические характеристики поведения и деятельности, в значительной степени отражающие функциональное состояние центральной нервной системы.
В дополнение к сказанному следует еще раз подчеркнуть, что описанный вариант клинического подхода к изучению социальной адаптации умственно отсталых лиц носит преимущественно констатирующий характер: фиксируемая при обследовании клинико-психопатологическая структура соотносится с регистрируемыми внешними показателями адаптации. Генезис же того и другого остается за рамками исследования, хотя и высказываются вполне вероятные предположения о причинах формирования того или иного варианта адаптации – дезадаптации.
Из клинико-психологических работ, посвященных данной проблеме, следует упомянуть, прежде всего, исследование Л. И. Лычагиной (1987), наиболее созвучное по своему содержанию задачам нашего исследования. Изучая особенности динамики интеллектуальной деятельности у детей с ЗПР и олигофренией в степени дебильности в зависимости от выраженности органического поражения головного мозга и от особенностей «эмоционального существования» ребенка на протяжении всей жизни (где на первый план выдвигаются различные формы неприятия умственно отсталого ребенка в семье), автор затрагивает и проблемы социальной адаптации, которые она усматривает, прежде всего, в особых условиях социального развития исследуемых детей. Привлечение в этой связи таких объектов психологического анализа как фрустрационное поведение, когнитивный аспект самосознания, мотивация социального поведения, феномен «самодостаточности», характеризует данный подход как имеющий отчетливую личностную направленность. Особая ценность полученных Л. И. Лычагиной данных определяется длительностью периода, отделяющего первичный диагностический срез от катамнестического обследования (от 5 до 9 лет).