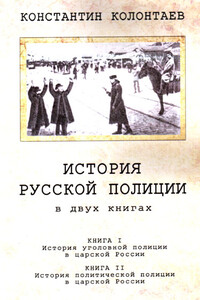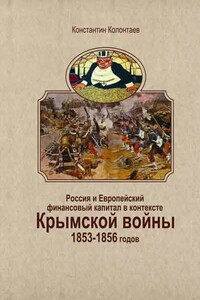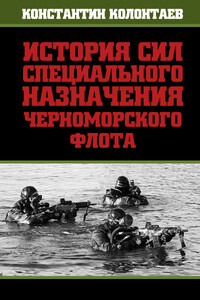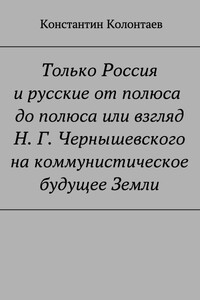Внешний коммунистический блеск и внутренняя либеральная нищета марксизма | страница 79
А пытались, защищать немцев попавших в плен от справедливой красноармейской мести, как ни странно именно те кого немцы после пленения очень быстро расстреливали, а именно — комиссары и политруки. Как ни парадоксально, особенно усердствовали в спасении немцев и обличали русские зверства те комиссары, про которых в немецких листовках писалось: «У жида-политрука морда просит кирпича».
Читал я, к примеру, политдонесения подобных «красноармейских воспитателей», датируемые апрелем-маем 1944, когда шли бои по освобождению Севастополя, в которых они постоянно жаловались на тему, типа, что вот, мол красноармейцам Пупкину и Дыркину поручили отконвоировать 40 пленных немцев с передовой в штаб дивизии, а они, мерзавцы такие, доставили к месту назначения всего 15. Кстати, подобные приглушенные завывания, о судьбе «несчастных немецких пленных», были слышны, и в некоторых романах о войне Константина Симонова.
Другой известный в свое время советский поэт, комиссарствовавший в 1942–1946 годах, Борис Абрамович Слу́цкий, так же заполнял свой военный дневник жалобами на красноармейские зверства. Такое же лицо комиссарской национальности — Лев Копелев, обличал «русские зверства» в оккупированной Красной Армией восточной части Германии, так громко, что в конце войны угодил за это в лагерь. Откуда ему затем удалось перебраться в шарашку, где он трудился вместе с Солженицыным. При Хрущеве он стал, разумеется, диссидентом, эмигрировал в Германию. Оставил после себя трехтомник мемуаров, кстати, небезынтересных. Рекомендую достать и почитать.
Помимо комиссаров и политруков, защищали пленных немцев от красноармейских расправ, также и офицеры военной разведки и контрразведки, но те, понятно, из чисто утилитарных соображений.
Часть 6. Невыученные уроки Второй Мировой и Великой Отечественной войны, в плане национальной революционности и контрреволюционности и последствия этого
Стоило, закончиться Великой Отечественной войне, как правящая советская элита стала вновь возвращаться в прежнее состояние марксистко-интернационалисткого маразма. Самым наглядным проявлением этого стала отмена в СССР летом 1947 года, смертной казни.
С точки зрения, самой элементарной логики, для такого решения, в тот момент, не было никаких объективных оснований. Начиналась «холодная война», Западная Украина и Прибалтика были охвачены массовым антисоветским повстанческим движением. В старых советских землях процветал массовый вооружённый уголовный бандитизм, и для борьбы с ним ещё в конце войны в составе МВД было создано «Главное управление по борьбе с бандитизмом», имевшее свои подразделения во всех местных органах внутренних дел. Что же тогда заставило Сталина в такой обстановке отменить смертную казнь?