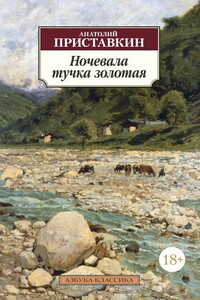Солдат и мальчик | страница 58
Васька сидел, как дремал все равно, а уши у него торчком стояли. Все намотал на свою память. Про Москву, где мороженое появилось, сласть какое вкусное; про рынок в Малаховке, где народу больше, а значит, и поживы. А в Люберцах кино «Багдадский вор» идет, и уже повторяют: «Вор у вора дубинку украл!» Интересно бы посмотреть, как у них там воруют. Лишний раз поучиться не грех. Вроде как обмен опытом.
Хлопнула дверь, и встал на пороге директор, высокий, худощавый человек в белой рубахе. Все разом вдруг завопили, негромко, но очень проникновенно, страдательно, в унисон:
– Отпустите, Виктор Викторович… К родным, Виктор Викторович… Давно звали, Виктор Викторович…
И Васька заныл, создавая страдательное выражение лица. Посмотришь – сразу видно, что невозможно ему не попасть к родне, которая его зовет не дозовется.
Знает Виктор Викторович, ой, наверное, догадывается, что нет у ребят никакой родни. Но играет с воспитанниками в одну игру. Кивает, делает вид, что верит им. А все потому, что экономия на бурде выходит, значит, двойная детдому польза: те, что уйдут, промышляют, а те, что послабей и промышлять не могут, бурды поболе хлебнут. И здесь политика. Никуда в наше время без политики. Ложку не опустишь без нее в затируху.
Виктор Викторович дал каждому по листку бумаги, заготовленной заранее, и все побежали, полетели, как на крыльях, к кухне, получить свои хлебные пайки. Иначе стали бы они отпрашиваться да врать про несуществующую родню. Ушли бы, да и дело с концом.
Васька доскакал быстрее всех до кухни, сунул листок в раздаточную. Всего две каракули на листке: «Разрешаю отпустить». Но каждая каракуля двести граммов хлеба весит. Отполосовали Паське ножом кус, бросили на весы, крошек сверху добавили и протянули в окошко. Пока Васька хлеб ломал, крошки начали сыпаться, Васька их на лету ловил. Не заметил, как половину куса съел. Само проглотилось, проскользнуло. Это ведь долго ждать, когда накормят, а есть не бывает долго. Но самое обидное, когда вот так машинально съешь. Никакого самочувствия, ни зубы не подержали, ни язык не поблаженничал, не помял, не послюнявил, ни желудок, ни пищевод не обласкали…
Васька вспомнил вдруг про солдата. Разломил оставшийся кусок пополам, а крошки снова съел, не виноват же он, что столько крошек остается. Вернулся повеселевший, сказал, протягивая хлеб:
– Меня отпустили.
Солдат полулежал, подложив руки под голову и глядя в небо. Он спросил, не двинувшись: