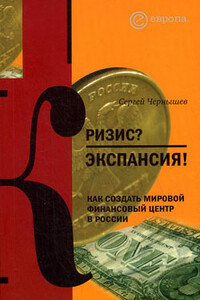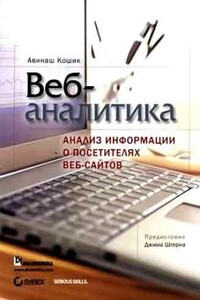Техноэкономика. Кому и зачем нужен блокчейн | страница 10
Здесь несколько вопросов, из них центральный для меня – язык русской цивилизации, ставший неадекватным мировым вызовам.
Русское как язык культуры строится по поводу иных языков и иных миров. Он требует высокой значимости чуждого и другого, он одержим этой значимостью.
По своей природе, от Пушкина еще, он нуждается в “немце” и “французе” – в первичном веществе чужого-другого-(иного?), в котором русский(-ое) и свивает гнездо. Для России Фронтир значит, пожалуй, еще больше, чем для Америки: Россия как цивилизация и есть фронтир, ничего помимо. (Или, по Гефтеру, “Россия – явление непосредственно мировое”)
…Но с 1917-го (а с 1927 подчистую) поток чужого первичного был прерван – впервые после Пушкина. Обычную цивилизацию это бы только затормозило – Россию поразило в пяту. Ибо, чтобы существовать, она вынуждена былапридумывать мир вовне – придумывая далее себя по поводу выдуманного мира.
* * *
Русский навсегда останется языком великой культуры, и в этом качестве ему ничто не угрожает… Однако обсуждение на русском языке современных проблем к концу тысячелетия стало практически невозможным.
Еще в 1949 г. один из знаменитых русских изгнанников, чувствуя, как немеет язык, успел выговорить, что родная речь изменяет, перестает быть тем, “чем был для Тургенева русский язык, уже не целительный для нас с тех пор, как мы узнали всю ту меру или безмерность лжи, какую он способен нести в мир”.
Но ядом этой лжи в первую очередь было отравлено обществознание – специализированный раздел языка, служащий обществу для самоописания.
Потеря самосознания – обморок культуры.
Русский Мир может скончаться, не приходя в самосознание.
Русский текст рассыпается, поскольку разорван русский смысл.
Освободившись от тоталитарного льда, стихия родной речи, казалось, привольно зашумела и забурлила, как встарь, – на полотнах Айвазовского. Но вода оказалась кипяченой. Умные рыбы ушли из нее. И ловцы тщетно закидывали невод – приходил он с публицистическою пеной. Квинтэссенция гласно-перестроечной проблематики: Какая дорога ведет туда, где пышнее пироги?..
Новейший пиджен-рашен страдает наихудшим видом гёделевской неполноты: не содержит выразительных средств, чтобы поставить основные русские проблемы. А те, что хоть как-то формулируются, не имеют в нем решения. “Постперестроечное” русское самосознание корчится, безъязыкое, хотя его смысловые узлы вполне определились. И тут не обойтись одним заимствованием иноязычных терминов. Грядет ли шишковское “хорошилище”, шагает ли пушкинский франт, – спор о России топчется на месте.