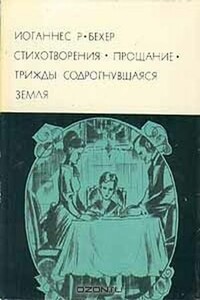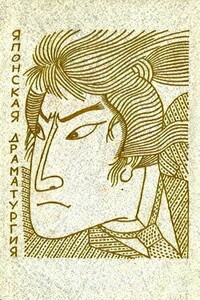Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля | страница 7
Некоторые критики и историки литературы склонны видеть в творчестве Бехера вплоть до второй половины двадцатых и начала тридцатых годов продолжение экспрессионистских традиций. Встречаются в критике суждения, утверждающие, что даже в конце тридцатых годов, когда писатель создавал свой роман «Прощание», он еще не мог освободиться из-под власти экспрессионистских влияний. Думается, что это решительно неверно, что тут происходит смешение понятий: экспрессивное, выразительное, даже подчеркнуто выразительное в поэтике и стилистике Бехера принимают за экспрессионистское, что отнюдь и далеко не то же. Подобно тому как Маяковский отошел от футуризма, так и Бехер отошел от экспрессионизма (к тому же последний, как и футуризм в России, распался за довольно короткий срок). Но подобно тому как Маяковский сохранил (и развил) свою особую выразительность до конца своих дней, так и Бехер не отказался от поисков художественной выразительности, направляя ее в новые стилистические каналы.
Поиски выразительности, обогащения ее возможностей и форм сопровождали Иоганнеса Бехера на всем пути его творчества, — это было, если так можно выразиться, проявлением его «субстанции» поэта. На раннем, условно говоря — экспрессионистском (ибо «программным» экспрессионистом Бехер, в сущности, не был) этапе своего творчества поэт искал форм для наиболее резкого, субъективно лирического воплощения того смятения протестующих чувств, которое владело дм. Отсюда и хаотический, «кричащий» стиль, который был присущ его ранним стихотворениям.
В дальнейшем, после «прощания» с экспрессионизмом, творчество Бехера характеризуется растущей идейной ясностью, определенностью решаемых общественных, а потому и творческих, задач. Поэт становится пропагандистом, агитатором, в его стихи врывается ораторская интонация, образы его произведений приобретают плакатные очертания, у них броский, резкий, контрастный рисунок. Свои идеи он воплощает в публицистические формы, его «публицистика» в поэзии выступает в ярких метафорах, кричащих сравнениях, — не случайно Бехер переводит на немецкий язык «150 000» Владимира Маяковского: образность этой поэмы ему близка. Новая стилистика, новая поэтика лирика-агитатора, обличителя капиталистической скверны и пропагандиста нового, социалистического мира ярко выступает у Бехера в сборниках и циклах с характерными названиями «Труп на троне» (1925), «Для расклейки на стене» (отдельное издание — 1933), «Серьде колонны» (1930). Агитационная драма — оратория «Рабочие, крестьяне, солдаты» (1924 — второй вариант), страстный лирический «эпос социалистической стройки» — поэма о первой советской пятилетке «Великий план» (1931), — также несут на себе печать этого патетического, агитационного стиля, порожденного глубокими, искренними переживаниями поэта.