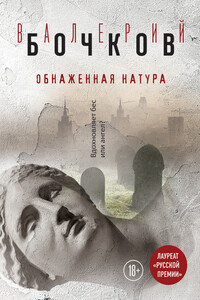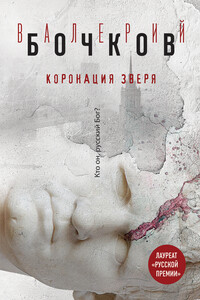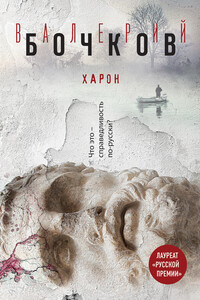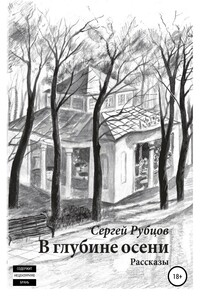Шесть тонн ванильного мороженого | страница 59
Я трогаю колкую хвою. Кончиками пальцев. Щекотно, трудно перестать. Оранжевый от заката песок, мягкий, в собачьих лапах и крестиках птичьих следов, в ботинок упирается змейка велосипедной полоски, утекающей вдаль по тропинке, изящно раздваивается в два колеса при повороте, а после сливается снова в один след.
У моего каблука – муравей. Большой, красно-коричневый, словно составленный из кровавых бусинок, страшно суетясь, пытается утащить шелковистую гусеницу с замысловатым узором. Гусеница пружинисто извивается – она вдвое больше, но муравей упорен и не сдается. Вновь и вновь подползает под нее и тащит. Время его на исходе – солнце уже почти село.
Вот и Лариса. Опоздала почти на двадцать минут – не сюрприз. Волосы мокрые – только из душа. Майка на голое тело – ну-ну…
Я глянула вниз, на муравья. Похоже, ничего у него сегодня не получится. Увы… Я припечатала его каблуком, крепко надавив, чуть даже ввинтив в песок – так, для верности.
– Вы сказали, что это очень важно? – улыбаясь, спросила Лариса.
– Жизненно важно! – Я тоже улыбнулась. – Вы все увидите сами. Пойдемте!
– Куда? – Это – игриво щурясь.
Мне не хотелось портить сюрприз – пусть сама все увидит.
…как он там под канифольной желтизной абажура кромсает и полосует этих мерзких девиц – бритвой! – вырывает их из журнала – и на стол! И бритвой! Так их, будут знать, паскуды! «Ни стыда, ни совести» – как матушка-покойница говорила, ведь что вытворяют, оторвы? Ни стыда, ни совести! Наказать гадких девчонок!
Пусть, пусть сама увидит!
…как еще там матушка говорила: «Не будешь меня слушаться, пакостный мальчишка, – я тебя вот этими ножницами, чик-чик (пусть, пусть на эти ножницы полюбуется – большие, страшные, аж острые – жуть! – сзади за ремнем спину как холодят приятно), чик-чик – и девчонку из тебя сделаю. Чик-чик! И готово. Был мальчик – и нету! Есть девочка. Егоза бесстыжая! А уж с грязными девчонками я знаю как поступать. Как их, негодных, наказать! Знаю!»
Я взяла велосипед за черный руль и мягко покатила рядом. Запахло дымком, кто-то топил самовар на веранде.
Вдруг Лариса остановилась:
– А сознайтесь, – она кокетливо, чуть по-птичьи склонила голову (так курица одним глазом – глупым и круглым – разглядывает червяка), – сознайтесь, что вы ко мне… э-э-э… не-ра-вно-душ-ны. А, Глеб Ильич?
Мне стало смешно.
Она даже не представляла себе, насколько была права.
Дюны Скарборо
В последней неделе августа есть некая печально-восторженная истома, упоение надвигающимся финалом, будто кто-то жестокий с иезуитской медлительностью показывает вам грустные картинки наступающей осени: то вдруг за ночь покраснеют листья клена, то распахнется настежь меловой скукой набухшее небо, то тоскливо потянет откуда-то сырым дымом небойкого костра. От упрямого ветра слезятся глаза, он дует всегда в лицо, всегда с севера. Он знает, что делает, – он усердно гонит холод. Густой кустарник шумно кланяется, заголяясь светлой изнанкой листьев. Летняя пестрота почти слиняла, все вокруг кажется присыпанным серой пылью: соседняя роща, крыша флигеля, торчащая из-за сломанного бука. А дальше горбатый мосток на тощих сваях, за ним жестяная полоска океана с кромкой посеревшего песка, такого золотистого еще вчера. По покатым склонам дюн гуляет сырой ветер, видно, как он треплет осоку, в которой все лето таились краснокожие охотники за скальпами, а теперь не осталось ничего.