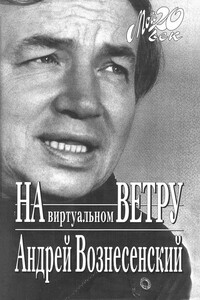Некрополь | страница 63
— что вы понимаете, обе полы мне приходилось все время носить в руках!
Так началась ученая карьера Гершензона и его бедность.
Тыча себе тремя пальцами куда-то «под ложечку», туда, где в петлю потертой жилетки продета часовая цепочка, Гершензон говорит:
— Я расстраиваюсь и волнуюсь только нутром, до сих пор: а выше всегда спокоен и ясен.
Житейские тревоги часто доходили ему «под табак». Но до ума и сердца он умел их не допускать. Они его не ожесточали, не омрачали, не мутили прекрасной чистоты его духа.
Это, однако ж, не переходило ни в беззаботность, ни в то варварское презрение к житейским удобствам, которым так любят у нас щеголять иные из косматых «людей мысли». Не притворялся и бессеребренником. Напротив, умел он быть бережливым, хозяйливым, домовитым, любил обстоятельно поговорить о гонораре. Даже знал себя «в этом деле максималистом». Книжная лавка писателей стоном стонала, когда, в 1919 г., он вздумал продать ей лишние книги из своей библиотеки.
В тяжкие годы революции он занимался «полезными изобретениями». Додумался, например, до того, что, выкурив папиросу, не выбрасывал окурка, а осторожно стаскивал с мундштука трубочку папиросной бумаги, вновь набивал ее табаком и таким образом заставлял одну гильзу служить два раза. Путем упражнения довел технику этого дела до высокого совершенства. Потом изобрел ящик, изнутри обитый газетной бумагой и плотно закупоривающейся: ежели в этот ящик поставить кипящую кашу, она в нем дойдет и распарится сама по себе, без дров. Можно и суп.
Дело прошлое: знаю наверное, что Гершензон с женой, Марией Борисовной, тайком от детей, иногда целыми сутками ничего не ели, питаясь пустым чаем и оставляя для детей все, что было в доме. И вот, голодая, простаивая на морозе в очередях, коля дрова и таская их по лестнице, — не притворялся он, будто все это ему нипочем, но и не разыгрывал мученика: был прост, серьезен, но — ясен. Скинет вязанку с плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг — так весело поглядит — и сразу заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль, хлопотать за арестованного писателя.
Как-то так складывалось, что нам доводилось часто ходить вместе по городу. Для меня это было сущим мучением. На улице я хорошо примечаю все, что случается, — но дурю; кажется, во всю жизнь ни одной путной мысли не пришло мне в голову на ходу. С Гершензоном было обратное. Чуть на улицу тут-то и начинает он либо философствовать, либо сличать пушкинские варианты, — а я ничего не понимаю и отвечаю невпопад. Зато Гершензон поминутно стремится то понапрасну перебежать улицу, норовя попасть под ломовика — с цитатой из Платона на устах, то свернуть в переулок, который нас уведет в сторону, противоположную той, куда мы направляемся.