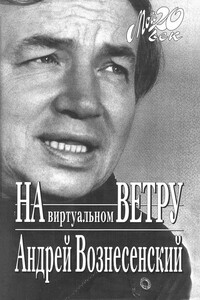Некрополь | страница 58
То и дело ему кричали: «Двенадцать!», «Двенадцать!» — но он, казалось, не слышал этого. Только глядел все угрюмее, сжимал зубы. И хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал) — все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации. Публика требовала, чтобы он явился перед ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, — и он, как актер, с мучением играл перед нею того Блока, которого уже не было. Может быть, с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдание и отчужденность наполняли в тот вечер все его существо. Это было так очевидно, так разительно, что когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти к нему за кулисы.
Через несколько дней, уже больной, он ухал в Москву. Вернувшись, слег и больше уже не встал.
В пушкинской своей речи, ровно за полгода до смерти, он говорил:
«Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармоний. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл».
Вероятно, тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав. Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи, — и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он все-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то «вообще», оттого что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти.
Мой уход из «Цеха Поэтов» не повлиял на наши личные отношения с Гумилевым. Около этого времени он тоже поселился в «Доме Искусств», и мы стали видеться даже чаще. Он жил деятельно и бодро. Конец его начался приблизительно в то же время, когда и конец Блока.
На Пacxе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он, как птица небесная, говорил — что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули: про писателей от него можно было узнать все, что нужно. Из Москвы привез он нового своего знакомца. Знакомец был молод, приятен в обхождении, щедр на небольшие подарки: папиросами, сластями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться. Привели его и ко мне, но я скоро его спровадил. Гумилеву он очень понравился.