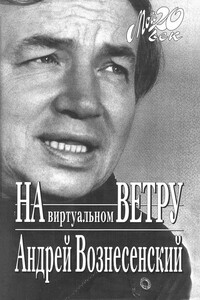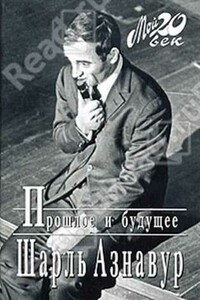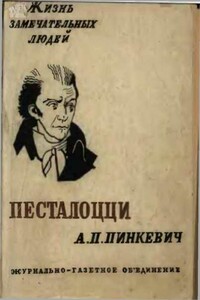Некрополь | страница 22
Всякий абсолютизм казался ему силою созидательной, охраняющей и творящей культуру. Поэт, следовательно, всегда на стороне существующей власти, какова бы она ни была, — лишь была бы отделена от народа. Ему, как «гребцу триремы», было
Все поэты были придворными: при Августе, Меценате, при Людовиках, при Фридрихе, Екатерине, Николае I и т. д. Это была одна из его любимых мыслей.
Поэтому он был монархистом при Николае II. Поэтому, пока надеялся, что Временное Правительство «обуздает низы» и покажет себя «твердою властью», он стремился заседать в каких-то комиссиях и, стараясь поддержать принципы оборончества, написал и издал летом 1917 года небольшую брошюру в розовой обложке, под заглавием: «Как кончить войну?» и с эпиграфом: «Si vis расет para bellum». Идеей брошюры была «война до победного конца».
После, «октября» он впал в отчаяние. Одна дама, всегда начинавшая свою речь словами: «Валерий Яковлевич говорит, что», — в начале ноября встретилась со мной у поэта К. А. Липскерова. Когда хозяин вышел из комнаты распорядиться о чае, дама опасливо посмотрела ему вслед и, наклонясь ко мне, прошептала:
— Валерий Яковлевич говорит, что теперь нами будут править жиды.
В ту зиму я сам не встречался с Брюсовым, но мне рассказывали, что он — в подавленном состоянии и оплакивает неминуемую гибель культуры. Только летом 1918 года, после разгона учредительного собрания и начала террора, он приободрился и заявил себя коммунистом.
Но это было вполне последовательно, ибо он увидал пред собою «сильную власть», один из видов абсолютизма, — и поклонился ей: она представилась ему достаточною защитой от демоса, низов, черни. Ему ничего не стоило объявить себя и марксистом, — ибо не все ли равно во имя чего — была бы власть.
В коммунизме он поклонился новому самодержавию, которое с его точки зрения было, пожалуй, и лучше старого, так как Кремль все-таки оказался лично для него доступнее, чем Царское Село. Ведь у старого самодержавия не было никакой оффициально-покровительствуемой эстетической политики, — новое же в этом смысле хотело быть активным. Брюсову представлялось возможным прямое влияние на литературные дела; он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность «направлять» литературу твердыми, административными мерами. Если бы это удалось, он мог бы командовать писателями, без интриг, без вынужденных союзов с ними, — единым окриком. А сколько заседаний, уставов, постановлений! А какая надежда на то, что в истории литературы будет сказано: «в таком-то году повернул русскую литературу на столько-то градусов». Тут личные интересы совпадали с идеями.