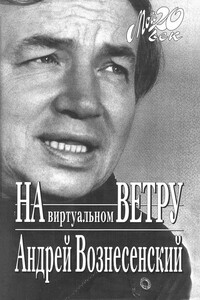Некрополь | страница 112
Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера.
Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь — даже самую наглую или беспомощную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему было жалко лжецов конфузить, но главное — он считал своим долгом уважать творческий порыв, или мечту, или иллюзию даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его и даже сделать соучастником обмана ничего не стоило.
Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться — даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам.
8 ноября 1923 г. он мне писал:
«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в „Накануне“ напечатано: „Джиоконда, картина Микель-Анджело“, а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: „Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги“. Все сие будто бы (Слова: „будто бы“ вписаны над строкой. — В. X.) отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: „Указатель об изъятии анти-художественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя“.
Сверх строки мною вписано „будто бы“ тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу „Указатель“.
Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?
Знали бы Вы, дорогой В. Ф., как мне отчаянно трудно и тяжко!»
В этом письме правда — только то, что ему было «трудно и тяжко». Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого «духовного вампиризма». Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществить протест, послав заявление о выходе из советского подданства.