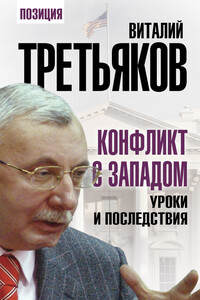Национализм как политическая идеология | страница 39
Здесь «технический» аспект перетекает в то, что мы назвали «гуманитарной» стороной дела. В рамках системы социальной коммуникации, складывающейся в рамках «национального государства», создается специфический контекст, понятный «своим» и непонятный «чужим». Приезжий, даже владеющий языком страны (скажем, поляк, приехавший из Томска в Варшаву, или канадский украинец, решивший посетить Черновцы), долгое время будет чувствовать себя чужим и восприниматься как чужой именно потому, что не знаком с тем символическим универсумом, который кажется само собой разумеющимся всякому, кто в этой стране родился и вырос.
У самого К. Дойча систематического развития этих идей, к сожалению, не просматривается. Его работы довольно сумбурно написаны и не всегда отвечают критериям логической строгости. Так, перечисляя моменты, служащие критериями интенсивности коммуникации, он выделяет уплату налогов центральному правительству, соотношение долей горожан и сельчан в структуре населения, чтение национальной газеты, получение и отправление писем (для того чтобы можно было говорить о нации, это должно происходить не реже одного раза в неделю), посещение начальной школы в течение четырех лет, уровень грамотности и др. «Список удивительно непоследователен, — справедливо замечает В. Коротеева, — если чтение газет и отправка и получение писем действительно являются измерителем коммуникации, то жизнь в городе или уровень образования — лишь некоторой предпосылкой увеличения интенсивности общения»[79]. Другая серьезная претензия к построениям К. Дойча — в недоказуемости его основного допущения, согласно которому, чем интенсивнее социальная коммуникация, тем прочнее национальная солидарность. Наконец, равным образом бездоказательным остается и постулат, что интенсификация коммуникации ведет к национализму. Как отмечает, анализируя концепцию К. Дойча, Энтони Гидденс, развитие внутренней коммуникации внутри государств действительно ведет к формированию общей моральной и политической идентичности. Но совершенно неочевидно, что такое развитие должно влечь за собой появление именно националистических чувств. Во-первых, «не существует необходимой связи между интенсификацией коммуникации и консолидацией государства». Во-вторых, не понятно, «почему такая интенсификация должна влечь за собой именно национализм»