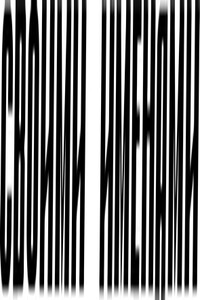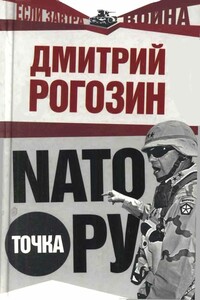Национализм как политическая идеология | страница 28
Этим противоречием была пронизана вся советская литература о «нациях и национализме». На декларативном уровне — интернационализм и непримиримая оппозиция к «проявлениям национализма», на уровне базисных теоретических представлений — этнонационализм.
Находясь в оппозиции, большевики активно сотрудничали с националистическими движениями. Борьба с царским режимом велась не только под лозунгами классовой борьбы (пролетариат против буржуазии), но и под лозунгами национальной борьбы (освобождение от гнета империи — выход из «тюрьмы народов»). Однако после прихода к власти коммунисты резко сменили риторику. Термин «национализм» был закреплен за сепаратизмом. Правда, по инерции дореволюционных лозунгов первые официальные документы новой власти провозглашали право народов России на «самоопределение», «вплоть до отделения и образования самостоятельных государств»[58]. Однако впоследствии этот тезис был снят с повестки дня, а сторонники отделения были объявлены «буржуазными националистами»[59].
Противоречивость теоретических постулатов, на которых в разное время базировалась официальная советская идеология, влекла за собой крайнюю непоследовательность этнической политики (в сложившемся у нас словоупотреблении — «национальной политики»). В первое десятилетие большевистского правления, например, проводились мероприятия по «коренизации», или «советизации на ста языках». Предполагалось, что каждый из составляющих страну народов будет строить советскую власть с учетом своей этнокультурной и этнолингвистической специфики. В результате этой политики возникло множество национально-культурных автономий, в том числе экстерриториальных, вполне в духе идей Отто Бауэра, а также «национальные школы», обучение в которых ведется на языках меньшинств. Однако к середине 30-х гг. эта политика свертывается. (Последняя национальная школа в Москве (татарская) была закрыта в 1938 г.) Берется курс на форсированную ассимиляцию (русификацию) меньшинств. Этот период — со второй половины 30-х по середину 50-х гг. — в восприятии сегодняшних русских национал-шовинистов выглядит как своего рода «золотой век» национальной государственности. В их глазах Сталин был (за исключением короткого периода приверженности большевизму в 20-е гг.) «настоящим русским националистом»[60].
Этническая политика коммунистов, несмотря на то что была фактически нацелена на построение унитарного государства, провозглашала своей задачей развитие и укрепление федеративных отношений. Будучи на уровне реальных действий жесткой диктатурой центральной власти, опиравшейся на русскоязычный актив, на уровне риторики она выступала как развитие «национальной государственности» нерусских народов. Даже однозначно ассимиляторские меры властей преподносились в терминах заботы о самобытности этнических меньшинств. На волапюке, просуществовавшем вплоть до 80-х гг., это называлось «всестороннее развитие и сближение советских наций». Кстати, периодически проводившиеся в партийном аппарате чистки не отменяли того обстоятельства, что коммунисты за семь десятилетий своего правления создали-таки и этнические элиты («национальные кадры»), и этнические культуры (издание художественной литературы на «языках народов СССР», национальные союзы творческих работников и т. д.).