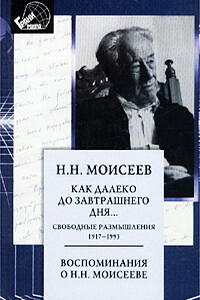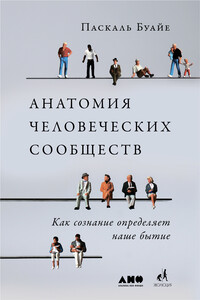Человек и ноосфера | страница 36
По этому пути, по существу, идут Пригожин и его последователи. Но могут быть предложены и другие идеи. Об одной из них я расскажу позднее.
Небезынтересна судьба редукционизма в биологии. В прошлом веке, в особенности в его начале, казалось аксиомой утверждение о некой жизненной силе, присущей всему живому, о невозможности объяснить процессы, протекающие в живом веществе, только одними законами физики и химии. Это течение мысли получило название витализма. Однако оно довольно быстро стало размываться. Многие факты начали получать свое относительно простое объяснение, например, явлением наследственности, и они не требовали привлечения, казалось бы, потусторонних соображений о существовании некой жизненной силы. Поэтому влияние редукционизма весьма глубоко проникло и в различные области естествознания.
Бертран Рассел, кажется, сказал однажды, что, как это ни удивительно, но все свойства живого вещества можно будет предсказать однажды, ибо они однозначно определяются особенностями электронных оболочек атомов, в него входящих.
Конечно, такая точка зрения весьма упрощена, если угодно, рафинирована. Но ей трудно отказать в привлекательности, и, что, может быть, еще важнее, она дает указание о направлениях возможных исследований. И в той или иной степени ей следуют многочисленные работы выдающихся ученых. Уже упомянутые мной работы М. Эйгена, посвященные изучению эволюции биологических макромолекул, относятся к числу тех исследований, в которых делается попытка объяснить процессы, протекающие в живом организме, законами физики и химии.
Вместе с тем найдется не так много биологов, которые готовы принять безоговорочно основной постулат редукционизма, смысл которого состоит в том, что никаких неожиданностей, никаких новых свойств макроуровня, не выводимых из свойств микроуровня, не существует. Другими словами, свойства системы однозначно определяются свойствами ее элементов и структурой их связей. Если этот процесс в таком крайнем виде неприемлем для биолога, то он тем более не может быть принят науками об обществе.
Я думаю, что существует некоторая общая проблема, актуальная для любых уровней организации материи. Я ее называю «проблемой сборки», или, может быть, точнее, «проблемой механизмов сборки». При объединении элементов, то есть при переходе к макроуровню, происходит образование новой структуры, обладающей своими специфическими качествами.
Кое-что об этих алгоритмах сборки мы уже знаем. Один такой пример нам дает изучение движения того же вязкого газа, о чем мы только что говорили. Если мы знаем механизм соударения молекул и если газ достаточно плотный, то есть если длина свободного пробега молекул достаточно мала, то мы, в принципе, владеем алгоритмом сборки: мы можем определить температуру, плотность, давление и другие характеристики системы «движущийся газ», которые не имеют смысла для произвольной совокупности молекул. Приведенный пример относительно прост, ибо мы знаем, как получаются общие свойства системы из свойств ее элементов.