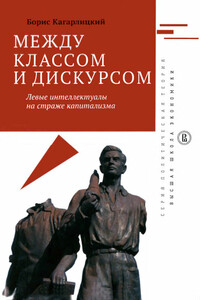Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира | страница 85
У подножия этой пирамиды плантаторской элиты находились фермеры, обрабатывавшие землю с помощью труда нескольких рабов, затем большое число мелких землевладельцев, не имевших рабов, и, наконец, белая беднота из глубинки, чья сельскохозяйственная деятельность ограничивалась вылазками в отдаленные кукурузные поля. Белые бедняки существовали за пределами рыночной экономики, а многие мелкие фермеры занимали в ней периферийное положение [North, 1961, p. 130]. Более успешные фермеры стремились к тому, чтобы приобрести в собственность еще несколько чернокожих рабов и превратиться в крупных плантаторов. Влияние этих промежуточных групп уменьшилось после эпохи Джексона, хотя существует целая школа историков-южан, пытающихся создать романтический образ йоменов и «простого люда» Старого Юга как основы демократического социального порядка.[83] Я считаю, что это полная чепуха. Во все времена и во всех странах реакционеры, либералы и радикалы рисовали свой портрет деревенской бедноты, подходивший для их теорий. Доля правды в этом описании состоит в том, что мелкие фермеры-южане в целом принимали политическое лидерство крупных плантаторов. Авторы-марксисты утверждают, что это единство внутри белой касты противоречило реальным экономическим интересам мелких фермеров и возникало только из-за того, что страх перед чернокожими сплачивал белых. Это возможно, хотя и сомнительно. Мелкие собственники нередко подчиняются лидерству крупных плантаторов, если нет очевидной альтернативы и есть шанс самому превратиться в крупного землевладельца.
Поскольку рабство на плантациях было доминирующим фактом в жизни Юга, необходимо проанализировать, как работала эта система, чтобы понять, приводила ли она к серьезным противоречиям с Севером. Одним соображением мы можем воспользоваться сразу. Почти наверняка рабство не находилось на грани исчезновения по внутренним причинам. Вряд ли убедителен тезис, что война была «ненужной», поскольку ее итоги были бы раньше или позже достигнуты в любом случае мирными средствами, поэтому реальный конфликт отсутствовал. Если рабство и должно было исчезнуть из американского общества, то для этого потребовалась бы вооруженная сила.
Лучшее доказательство тому на самом деле – положение дел на Севере, где мирное освобождение во время Гражданской войны столкнулось с почти непреодолимыми трудностями. Северные штаты, где рабство было едва развито, нашли всевозможные возражения, когда Линкольн попытался ввести умеренную схему освобождения, предусматривавшую компенсации для бывших рабовладельцев, и ему пришлось отказаться от своего плана [Randall, Donald, 1961, p. 374, 375]. «Прокламация об освобождении рабов» (1 января 1863 г.), как известно, не включала рабовладельческие штаты в состав Союза и области на Юге внутри границ Союза, т. е., по словам британского современника (графа Рассела, предка Бертрана Рассела), она освобождала рабов лишь там, «где Соединенные Штаты не обладали никакой властью» [Ibid., p. 380–381]. Если мирное освобождение сталкивалось с такими трудностями на Севере, что уже говорить о происходившем на Юге.