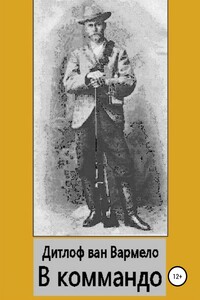Бытие. Творчество и жизнь архимандрита Софрония | страница 19
Как упоминалось выше, Сергей и его друзья выступали против станковой живописи. Можно возразить, что их этюды на пленэре тоже относились к станковой живописи, поскольку писались либо на холсте, либо на досках, но, по мнению художников, они таковыми не были. Станковая живопись рассматривалась как декоративное искусство[68]. В качестве такового она считалась буржуазным искусством, строго реалистическим и полностью фигуративным, отражающим упомянутый выше академический стиль. То, что их собственные картины на пленэре писались на холсте или доске, которые в процессе работы требовалось ставить на мольберт, не означало, что это «станковая живопись». Члены содружества в равной степени выступали против строго реалистического искусства передвижников, критикуя их за то, что те позволили своим идеям взять верх над художественной стороной живописи. Группа «Бытие» стремилась к позитивному, преобразованному и преображенному взгляду на природу и натюрморт, избавленные от ненужных деталей и украшательства, которые можно было найти во дворцах. Их идеалом была красота реального мира, мира, который все еще существовал, несмотря на бурные и тяжелые времена. В этом отношении на них повлиял их учитель, Кончаловский, который во всех превратностях судьбы умел разглядеть лучшую и возвышенную сторону жизни и только ее и изображал[69]. Он не старался уйти от страданий, а лишь возвыситься над ними, уйдя в более высокие сферы, чем невыносимые повседневные попытки выживания.
У группы также сложилось свое отношение к академическому обучению. Они были твердо убеждены в том, что академия не способна выпустить ни одного художника, в лучшем случае — искусствоведов или историков искусства. Они чувствовали, что жесткая преподавательская дисциплина академии убивает в учениках всякое вдохновение и талант. Творчество и нововведения были чужды преподаванию в академии, которое по старинке копировалось с неоклассических академий девятнадцатого века Западной Европы. «Академическая система художественного образования в значительной степени опиралась на рисование с натуры и копирование “оригиналов”, то есть на рисунки профессоров и гипсовые слепки античного искусства.
Рисование с натуры стало основой общей академической программы, и его исключительное положение объясняет высокий уровень мастерства среди студентов»[70]. После такого ограниченного обучения для друзей из «Бытия» стало очевидным, что выпускник совершенно неспособен к свободному и подлинному творчеству. Ту же мысль выразил художник Павел Филонов (1883–1941), сам страдавший от обучения в академии:«… [в рамках] нынешнего состояния педагогической программы Академии… ученик остается послушным программе и профессорам из страха быть изгнанным. В результате человеческая сущность в нем забыта, и из него сделан раб, лакей академической структуры»