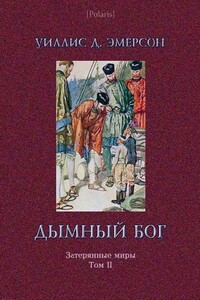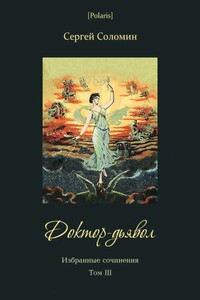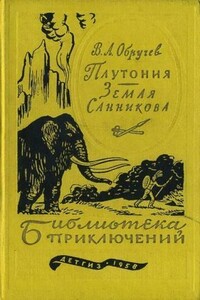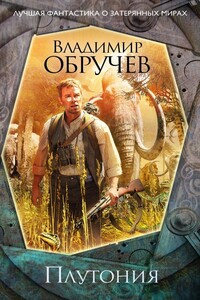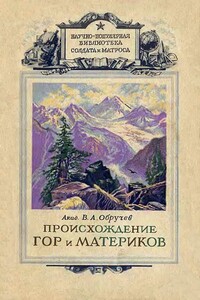Кричащие часы | страница 92
— Хотите, я угощу вас своими папиросами? — спросила, понизив голос до шепота и вкладывая в предложение какой-то особый, сокровенный смысл.
— Какие-нибудь особенные? — небрежно осведомился русский, протягивая руку к истрепанному портсигару.
— Особенные! — еще глуше, почти шепотом вымолвила Tea. — Выкурите — поймете.
— Что?
— Многое! — многозначительно ответила Tea, глядя в упор на художника стоячими глазами и хмуря непомерно густые брови. — Жизнь, искусство!
— Чудачка! — подумал Рубец. — И взял тоненькую, явно домашней работы папироску. Закурил. Был странный привкус в ароматном дыме папиросы. Сразу слегка закружилась голова. Потом это ощущение прошло и сменилось другими, никогда еще не испытанными художником ощущениями, быстро, как картины в калейдоскопе, сменявшими друг друга. Прежде всего и прочнее было ощущение странной легкости, будто потери тела, освобождения духа. Потом словно мешавшая видеть бесконечное разнообразие красок внешнего мира пелена стала отдельными слоями сползать с глаз, и все кругом заискрилось радужными цветами, сделалось невыразимо прекрасным, воздушным.
— Зачем вы раздеваетесь, Tea? — слабо удивился Рубец. И совсем не удивился, услышав ответ, что «так нужно». И увидел — Tea нага, и ее тело лучезарно, полупрозрачно и невыразимо прекрасно, хотя и уродливо, и невыразимо властны глаза женщины, и властны ее обнаженные руки, обвивающиеся вокруг его шеи, тянущие его с неудержимой силой.
— Теперь посмотри на мое творчество! — говорила шепотом Tea, нагая Tea. — Нет, ты лежи, не поднимайся. Я сама буду показывать!
И она показывала ему свою странную «работу». Он глядел на нее. И видел. Видел кошмарные рисунки на измятом ресторанном счете, на обрывке газеты, на клочке картона со следами пивной кружки. Это было то, что он видел и раньше, и вместе совершенно не то. Все теперь казалось совершенно логичным, самые странные комбинации казались совершенно естественными и именно, единственно нужными с этим новым, просветленным состоянием духа, с почти абсолютным отсутствием, невесомостью тела. И эти странные и вместе такие жизненные изображения были органически связаны с наготой тела Tea, с ее тяжелым и порывистым дыханием, с ее странной, кривой улыбкой, с ее судорожными движениями, с властью ее тела над ним, Рубцом.
— Понимаешь? — допытывалась Tea. — Все понимаешь? Ну… ну, и не нужно. Не говори! Ничего не говори!
Утром он проснулся с безумно тяжелой головой и измученным, свинцовой тяжестью налитым организмом, с какой-то пустотой в душе. Рядом с ним спала Tea. Было безобразно, внушало отвращение ее заплывшее нездоровым желтым жиром тело, ее кривые ноги, безобразно толстые в бедрах, слабые, бессильные, тощие, как у ребенка — от колена вниз. И вместе — были какие-то чары в этом теле.