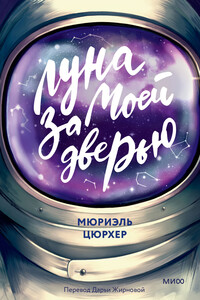Туула | страница 39
Второе повествование касалось происшествия, которое впечатляло посильнее первого. Рассказчик служил некогда в погранчасти, где-то в Карпатах, кажется, в Чопе. И эту детективную историю я уже слышал из уст Букаса, правда, преподнесена она была гораздо эффектнее - это было в те времена, когда он заходил к нам на правах друга дома, вечно под градусом, всегда язвительный и в то же время немного грустный и несчастный. У него хватало ума понять, что его живительный источник уже иссяк.
- ...а Грибко, наш старшина, знал: если разденешь графиню и ничего не найдешь, полетят погоны, и не только они, ой, не только!.. Он выслеживал ее аж от самой Москвы - эта дряхлая старуха в купе ехала, по всей вероятности, с внучкой... И вот когда до границы оставалось рукой подать, Грибко обратил внимание на то, что с самого начала путешествия и буханка хлеба, и банка с вареньем на их столике так и остались нетронутыми!.. Тогда Грибко...
Я знал: старшина Грибко схватил хлеб, банку, позвал Букаса и двух сержантов в придачу, разломил в их присутствии хлеб, помешал ложкой варенье... и оттуда посыпались... золото, бриллианты, кольца... Старуха хлопнулась в обморок, девица закатила истерику, а они, Грибко сотоварищи, кутили целую неделю... беспробудно!
- Тогда Грибко... - начал было Букас, но при этих словах я шагнул в комнату: старый сказочник осекся и сердито зыркнул в мою сторону, хотя и прикинулся, что мой приход ничуть не удивил его. И все-таки удивил! Однако он сумел так естественно овладеть собой, так талантливо нацепил маску, что ни одна жилка на его темном лице с кустистыми бровями не дрогнула, даже кончик уса не дернулся. Великий мастер! И это при том, что он давным-давно не писал ни обнаженной натуры, ни пейзажей. Даже в кафе литераторов не заглядывал. Он весь без остатка погрузился в быт, скитался по общежитиям, где кое-кто еще развешивал уши, ловя каждое слово его повествования, этих самых настоящих, законченных новелл. О, Букас, обычно говорили ему женщины и мужчины, почему бы тебе не записать свои сказки!
Нет, он не собирался начинать жизнь сначала или хотя бы с ее половины. Зачем? - высокомерно спрашивал Букас. - У меня таких знакомых не счесть! Жаждут новой жизни, меняют не только паспорта, но и имена, фамилии и даже клички, идут на тяжелейшие операции, в том числе и хирургические, и вдруг обнаруживают, что все это дерьмо, что не стоило из-за него мучиться! Все вылазит наружу, как навозная куча в оттепель (великолепное образное сравнение Букаса!), и тогда - хоть в петлю! К чему? В самом деле... У него незаурядный талант, и сидеть бы ему сейчас не в этом вонючем рассаднике тараканов, а в салоне с бледноликими дамами, где к нему относились бы с почтением, предупреждали малейшее его желание. Так нет же, он все равно тут, рядом со смрадным нужником, в окружении рядовых винтиков. Ой ли? Ведь сидели тут и вполне еще моложавая Иветта, и ее сердечный друг - поэт Нецарёв, и еще несколько вполне приемлемых слушателей... Все здесь слушали и слушались только его, Букаса, он давал команду выпить-закусить, отпускал ехидные, остроумные реплики, вероятно, маскируя тем самым свою израненную душу. Я был твердо убежден - не пышные формы моей женушки привели его сюда. Одиночество.