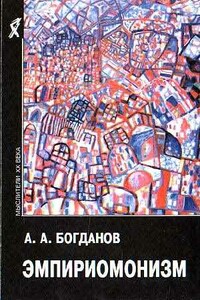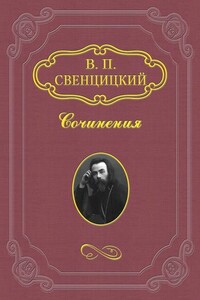Армагеддон | страница 38
Свобода слова, разумеется, лишь «наименьшее зло». Есть два рода писателей: одни сеют «разумное, доброе, вечное», а другие поставляют для этой цели навоз. Но так как подразделение писателей по названным двум категориям всегда несколько субъективно, то в конце концов Европа додумалась до принципа свободы слова, который так плохо усваивают русские правители, начиная от Рюрика и кончая нынешним генералом Дитятиным, не закрывшим всех газет только потому, что против этого возражают печатники.
«По мнению дураков, — говорил Гейне, — для того, чтобы взять Капитолий, нужно первым делом напасть на гусей». Мнение дураков, по-видимому, совершенно разделяется Советом Народных Комиссаров. Коммунистическому унтеру Пришибееву следовало бы помнить хоть то, что не всякая стая птиц спасает от гибели Рим. Опаснейшими гусями при Капитолии русской свободы оказались вечерние газеты.
«Книга губит социальную революцию», — сказал как- то г. Ленин. По существу он, разумеется, совершенно прав: его революцию, как и его социализм, книга действительно губит. Приходится в данном случае констатировать некоторую непоследовательность: настоящее бессмертие г. Ленин обрел бы, если б во славу большевистского Корана сжег Публичную библиотеку.
«Отлучаю тебя от церкви воинствующей и торжествующей», — сказал епископ Вазон, когда Джироламо Савонарола всходил на костер. «Воинствующей, но не торжествующей», — поправил Савонарола. «Слова эти были произнесены с таким выражением, — рассказывает Виллари, — что остались в памяти навеки у тех, кто их слышал».
Флорентийский мученик был совершенно уверен в надземной правоте своей смерти: «Пусть мир теснит меня сколько хочет, пусть враги мои восстают на меня, я ничего не боюсь, как тот, который возложил всю свою надежду на Бога... Не буду надеяться на людей, а лишь на Господа, и хвалу воздам Ему перед лицом всего народа, ибо честна перед Господом смерть преподобных Его. Если даже полки всего мира устремятся на меня, не убоится сердце мое, ибо Ты прибежище мое и Ты приведешь меня к моей цели». Это последние слова, написанные Савоноролой: затем у него была отобрана бумага. Ученик фанатика, фра Доменико, узнав, что будет сначала повешен, а только потом сожжен, умолял сжечь его живым, «чтобы он мог перенести еще более тяжкие муки ради креста Христова». «Погребите меня, — писал он монахам Сан-Доменико в Фиезоле, — в самом скромном месте, не в церкви, а у врат ее в уголке. Молитесь за меня, совершая литургию et coetera solita