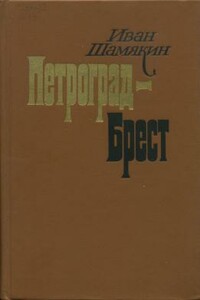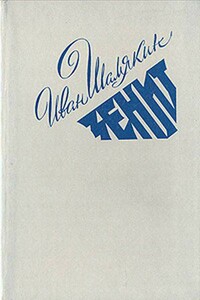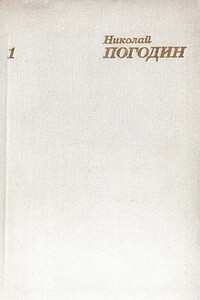Сердце на ладони | страница 50
Когда площадьь опустела, я пошел домой. По всему городу — патрули полиции и гестапо. Трижды меня останавливали и проверяли документы.
Лиза бросилась навстречу, встревоженная и обрадованная.
«Я все глаза проглядела. Почему так поздно? Говорят, людей вешали?»
И тут, впервые за этот день, мной овладела слабость. Подкосились ноги. Я обессиленно опустился на диван, должно быть, побледнел.
«Что с тобой?»
«Повесили Павла», — сказал я и… заплакал.
Она знала Павла, он заходил как-то, и ей нравилось, что я дружу с таким человеком, интеллигентным, умным, служащим управы.
Трудно сказать, почему я доверился ей в ту минуту. Бывают душевные движения, которые невозможно объяснить.
Женщина в этот момент, видно, многое поняла. Зажала рот руками, боясь закричать. Потом глянула в окно, закрыла на крючок двери. И ни о чем больше не спросила. Пропала ее надежда сделать меня мужем. И она сразу постарела, осунулась, совсем огорчилась, когда я отказался от еды. Я тоже больше ничего ей не объяснял. Надел лучший костюм, достал из тайника пистолет и гранату.
Она спросила:
«Ты больше не вернешься?»
«Не знаю».
Я сказал честно. Разве я мог знать, что со мной будет.
Она поцеловала меня.
«Будь осторожен, Кузя. Знай, тебе есть куда вернуться».
План был прост. Все становится простым, когда человек перестает думать о себе, о своей жизни… Когда главное — достижение цели.
Полиция помещалась в двухэтажном особняке по соседству с управой. Я мог пойти прямо туда. Но сначала пошел на площадь, пустую и жуткую в тот день. Холодный осенний ветер покачивал тела повешенных и веревки на трех виселицах. Для косо они оставлены? Нет, меня живым фашисты не возьмут! Я прощался с товарищами. Остановился против Павла шагах в двадцати. Ближе часовой не подпустил. Павлу на шею была накинута еще одна петля — повешена дощечка с надписью: «Я руководил бандой, которая убивала немецких солдат». Наде Кузьменко прикрепили на грудь надпись: «Я взрывала немецкие эшелоны».
Вообще они пускали смотреть на повешенных, потому и оставили казненных на виселицах — для устрашения горожан. Но я стоял, должно быть, слишком долго. Часовой вдруг погрозил мне автоматом и закричал, чтоб я проходил. Еще, чего доброго, выстрелит. Что для них значило убить человека! А мне умирать так нелепо нельзя! Поэтому я послушно ушел, попрощавшись с Павлом, с товарищами, которых я при жизни не знал, но с которыми смерть их сроднила меня.
Я пришел в полицию. Стоявший на часах полицай оказался знакомым. Я сказал, что хочу поступить к ним на службу. Он обрадовался: