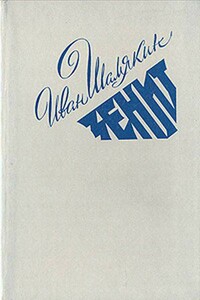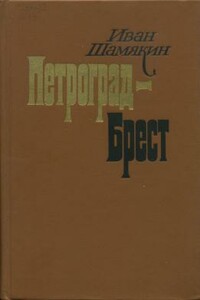Сердце на ладони | страница 21
— Найдется оправдание: всю зелень погубил Кушнер.
Гукан не ответил. Склонив голову набок, начал писать резолюцию на какой-то бумаге, и Кушнер опять сказал то, что подумал:
— Мне кажется, Шикович не насмешил, а испортил тебе настроение. Чем?
Гукан проговорил подчеркнуто вежливо:
— Иван Федорович, давай займемся делами.
Кушнер улыбнулся и пошел к двери, бросив на ходу:
— Я еду на строительство школы-интерната.
Семен Парфенович нервно прошелся по кабинету, остановился у окна, полюбовался каштаном, чтобы успокоиться. Листья, с утра влажные, быстро обсыхали, поднимали кверху острые зубчики, меняли свой ярко-зеленый цвет на зелено-матовый. Где-то в вершине шуршали невидимые птицы. Все, как всегда, как вчера, позавчера. А спокойствие не приходило. Снова всплыла тревога.
«Шикович не насмешил, а испортил тебе настроение. Чем?» В самом деле — чем? Если не считать несколько шумного разговора о культе личности, Шикович вел себя радушным хозяином. Вообще весь вчерашний день был приятен. И сейчас стоит в ушах шум дождя, а перед глазами — потоки воды, льющиеся с крыши…
В новом доме крепкий дух свежей сосны, аппетитно пахнут уха и жареная рыба…
Что еще говорил Шикович? Ага, о подполье… Что он сказал? «Хочу писать повесть. Документальную. Заглянуть поглубже. Разобраться». В чем? В чем он хочет разобраться? Ну что ж, пускай разбирается. В конце концов, держаться за свою оценку, данную подполью десять лет назад, не так уж сейчас и обязательно. Упорствовать было бы неразумно.
А вообще, будь его воля, он не позволил бы каждому писаке копаться в прошлом. Не твое это дело. Пиши о том, что видишь вокруг себя. Был на фронте — пиши про фронт. А я руководил подпольем — я и написал про подполье.
Впрочем, все это ерунда. Не в характере Шиковича слишком углубляться. Не хватит пороху.
«Я знаю меру твоей глубины — всё по верхам. Тебе кажется, что ты написал за меня книжку. Что бы ты написал, не будь моих материалов и рассказов? Лодырь. Я тебя силком засаживал за рабочий стол. Моя книжка поставила тебя на ноги. Не забывай это!»
Незаметно мысли приняли форму отповеди Шиковичу, который чем-то раздражал его. Правда, Семен Парфенович старался сохранить объективность. Даже упрекнул себя за то, что в последние годы как-то забыл о человеке, который ему помог. «Писатели народ самолюбивый, надо было его приласкать». Но эта «объективность» мало успокаивала. Чем больше он думал, тем больше злился. «Ишь, раскричался! Письма его заставляли писать!.. Переработался… Зазнался — вот в чем беда».