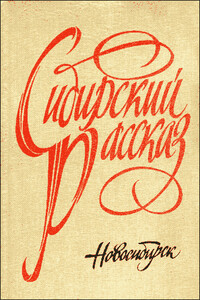Не переводя дыхания | страница 16
— Я? Ничего особенного. Вообще умру. А сейчас я вовсе не хочу об этом думать.
— Отмахиваетесь? Напрасно. Все равно придется задуматься. Это чертовски трудная роль — умереть. Лучше с репетицией. Я раз испытал. Это было здесь, в Петербурге. В семнадцатом году. Впрочем, об этом не стоит сейчас говорить. Но факт — страшно. Я вам расскажу о другом. Четыре года назад. Я был женат. Полное счастье. Потом жена умерла от родов. Вы понимаете, что это? Я сидел рядом и держал ее руку. А рука уже была мертвая. Я знал на этом теле каждую родинку, оно мне было как мое. И вдруг — труп. Я на редкость крепкий человек, но я свалился без чувств, как девчонка. Мне показалось, что я тоже умер. А когда я пришел в себя, первым делом я обрадовался: я не умер! Я ее страшно любил, но это так. Вы, может быть, скажете, что я негодяй. Успокойтесь — все таковы. Только редко кто признается. А дойдет дело до смерти, каждый предаст, и кого угодно. Это серьезная штука — смерть. Собственно говоря, это единственная реальность. Эти идиоты ломают, строят, надрываются, что ни человек у них, то герой. А зачем? Ведь все равно и они умрут. Как жалкие капиталисты. Как рабы мистера Форда. Как мыши. Не все ли равно, в какую тряпку завернут труп? Пахнет одинаково. Простите, что порчу вам аппетит. Этой зимой я познакомился в Берлине с одним журналистом. Он сейчас занимает высокий пост. Позвал он меня к себе. Жена, уют, второго такого добряка не сыщешь. Кошка у них, так он смотрит, чтобы не забыли ей дать молочка. Вот он мне и рассказал, как он шестнадцать человек ухлопал: раз — два. Это вовсе не садизм. Но подумайте: над своей жизнью мы не властны. Вот выйду на улицу, а меня автомобиль раздавит. Но если ты распоряжаешься чужой жизнью: «расстрелять» — как-то сразу в своих глазах растешь. Получается суррогат бессмертья. Для человека, который думает, это единственный выход.
Томсон вытер лицо салфеткой и раздраженно крикнул:
— Счет!
Официант тотчас же из памятника превратился в волчка. Кружась и что-то пришептывая, он поднес Томсону бумажку. Тот заплатил, а потом, устремив на Штрема свои бледноголубые младенческие глазки, спросил:
— Вы что же, фашист?
Штрем рассмеялся. Он впервые рассмеялся за всю эту ночь. Его смех походил на лай охрипшей овчарки.
— По призванию я поэт. А на самом деле — представитель торгового дома Краузе. Вполне прозаично. Что я чертовски боюсь смерти, это правда. А остальное — мечты, плюс пятнадцать рюмок водки. Я, например, еще никого в жизни не убил. Как видите, попросту неудачник.