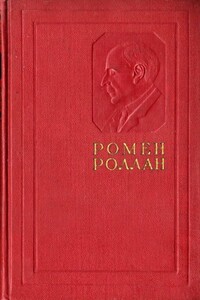Жан-Кристоф (том 3) | страница 79
- Терпение, мой друг, терпение! - отвечал ему Оливье. - Молчи, не говори, слушай...
Понемногу скрип земной оси стихал; грохот тяжелой колесницы действия, громыхавшей по мостовым, смолкал вдали, и начинала звучать божественная песнь безмолвия:
Жужжанье пчел, благоуханье лип,
И ветерок,
Устами золотыми
Ласкающий равнины...
И тихий шум дождя, и запах розы томной.
Слышался звон молота, каким поэты высекали на стенках ваз:
Простых вещей величие и скромность,
рисуя картины жизни важной и ликующей:
Под звуки золотых и деревянных флейт,
благоговейную радость и родники веры, бьющей из людских сердец, для которых:
Любая тень светла,
и баюкающей нас с улыбкой блаженного страданья:
Чей лик суровый излучает
Какой-то свет нездешний
И образ:
Смерти ясной с кроткими глазами.
Это была симфония чистых голосов, хотя ни один не мог сравняться с полнозвучным трубным гласом народов, вещавших устами Корнелей и Гюго; но насколько глубже и богаче тонкими оттенками казалась их гармония! Это была самая драгоценная музыка в современной Европе.
И Оливье сказал Кристофу, который тоже погрузился в безмолвие:
- Теперь ты понимаешь?
Кристоф сделал ему знак, чтобы он замолк. И хотя он любил более мужественные напевы, но теперь жадно впивал шепот рощ и ручьев человеческой души, чьи тихие голоса уже научился различать. Среди безрассудной борьбы между народами они воспевали вечную молодость мира и
Красоты благую кротость.
В то время, как человечество:
Вопя от ужаса и жалобно стеная,
На том же топчется бесплодном, темном поле,
а миллионы человеческих существ истощают свои силы, стараясь вырвать друг у друга окровавленные клочки свободы, - ручьи и рощи повторяют:
"Свободен!.. Ты свободен!.. Sanctum, Sanctus..."
[Свят, свят... (лат.)]
Но их не убаюкивали грезы эгоистического покоя. В хоре поэтов звучали и трагические голоса - голоса гордости, голоса любви, голоса тревоги.
Это был хмельной ураган,
То ласковый, то беспощадный, буйный...
В нем слышались бурлящие силы тех, кто в мощных эпопеях поспевал горячку толп, и битвы между кумирами, и тружеников в поту,
И миллионы лиц, то золотых, то черных,
И спин, то согнутых, то выпрямленных вдруг
В палящем свете домн и богатырских горнов,
кующих Город будущего.
Это был свет ослепительный и загадочный, падающий на ледники человеческого разума, это была героическая горечь одиноких душ, терзающих себя с весельем отчаяния.
Многие черты этих идеалистов казались немцу скорее немецкими, чем французскими. Но во всех жила любовь к "французскому изяществу речи", и соки греческих мифов текли в их поэмах. Пейзажи Франции и ее повседневная жизнь с помощью какой-то тайной магии преображались в их зрачках в видения Аттики, как будто в этих французах XX века еще жили души древних, стремившихся сбросить лохмотья современности, чтобы снова обрести себя в своей прекрасной наготе.