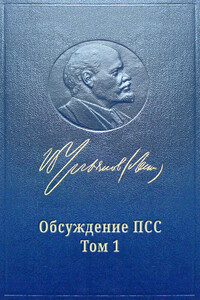Философия производительного труда | страница 25
Я. Певзнер, например, писал, что, по его мнению, «никакие рассуждения о труде «необходимом, но непроизводительном» не могут скрыть того факта, что признание деятельности лиц, занятых в сфере обслуживания, трудом, не создающим новой стоимости, принижает их значение и может создать у широких слоев трудящихся ощущение ненужности их усилий» [68]. Может быть, Я. Певзнеру было неизвестно специально направленное против подобных взглядов замечание К. Маркса о том, что «мораль, как и «заслуга» того и другого не имеют никакого отношения к этому различению» [69].
Вряд ли это высказывание К. Маркса было не известно академику Струмилину. Он, тем не менее, писал: «Не пора ли уж признать, что любой общественно полезный труд не может быть бесплодным? Социалистический принцип распределения требует от всех сограждан работы по способностям и вознаграждения по их труду, независимо от того, в какой сфере их способности используются в плановом хозяйстве. И признание в этих условиях труда какой-либо категории работников, скажем, учителей и врачей, выполняющих свои обязанности по способностям, непроизводительным порочит не только этих работников, но и все мероприятия, умножающие и вознаграждающие такой якобы бесплодный труд» [70].
Проводимое с помощью определения производительного труда отделение материально-производительного труда от всех прочих видов труда является научным, политэкономическим делением, необходимым для пользования методом исторического материализма. Следует поэтому подчеркнуть неправомерность подхода к этому делению из соображений, как бы кого не обидеть. Чтобы не обидеть и не отказываться от научного метода, есть только один путь: разъяснять истинный, научный смысл деления на производительный и непроизводительный труд, доказывать, как это и делал Маркс, что «мораль, как и «заслуга» того и другого, не имеют никакого отношения к этому различению».
Еще один сторонник расширения определения производительного труда — Б. В. Ракитский, отмечал: «Кое-кто из экономистов никак не может преодолеть того предрассудка, будто «работники непроизводственной сферы сами не создают фонда своего существования, а получают его из фонда удовлетворения общественных потребностей» [71], образуемого при распределении национального дохода, то есть результатов труда работников материального производства. Получается так, будто работники непроизводственной сферы — иждивенцы, нахлебники работников сферы материального производства»