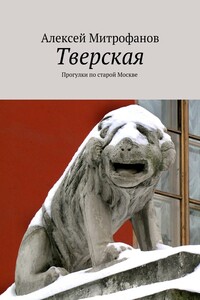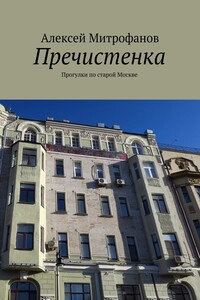Большая Никитская. Прогулки по старой Москве | страница 31
А в 1922 году Чернышевский переулок переименовали в улицу Станкевича. В честь Николая Владимировича, известного московского общественного деятеля, руководившего в позапрошлом столетии либеральным кружком. К переулку, правда, Николай Владимирович имел отношение косвенное – здесь жил его брат, Александр Владимирович, писатель и не то чтобы либерал…
В годы перестройки в нашем городе появилось много новых жителей. Они совсем не разбирались в краеведении и полагали, что улица прославляет демократа С. Станкевича. Призрак нового переименования завитал над многострадальным местом…
И в конце концов – свершилось. Переулку якобы вернули старое доброе название. Но не то, которое в действительности было, а то, которым некогда называли его маленький кусочек.
На пересечении же Вознесенского с Большой Никитской стоит один из самых старых (и при этом самых маленьких) московских храмов – так называемое «Малое Вознесение». Храм стал называться так после того, как в девятнадцатом столетии возникло Вознесение «Большое» (до него нам еще предстоит добраться). Раньше же церковь называлась просто Вознесенской или «Вознесение хорошая колокольница». Говорят, здешние колокола действительно были наредкость хороши.
Алексей Федорович Малиновский описывал это строение: «Церковь Вознесения Господня, Малым Вознесением называемая, на Большой Никитской улице, при повороте от университета, с правой стороны, с двумя приделами: во имя святого Николая чудотворца и святого Прокопия Устюжского чудотворца… Здание небольшое, старинной простой готической архитектуры, одноглавое, но трибун над нею осьмиугольный, надделан гораздо после».
Да и не только «трибун» – весь храм создавался как бы по частям, на протяжении всех веков своего существования. Поэтому пытливый наблюдатель здесь может углядеть и век семнадцатый, и восемнадцатый, и современную архитектуру. Даже не совсем понятно, как датировать эту постройку.
Храм, случалось, вляпывался в курьезные истории. В 1891 году газеты сообщали: «21 марта сторож храма Вознесения, именуемого „Малым“, представив в участок какого-то оборванца, заявил, что задержал его на церковном дворе за кражу с колодезя чугунной крышки. Задержанный назвался крестьянином Гжатского уезда, Кабардинцевым, не имеющим паспорта и пристанища; в краже он сознался».
Можно делать множество предположений, для чего именно понадобилось «оборванцу» красть чугунину. Вторчермет в то время еще не существовал. Продать крышку было, ясное дело, некому. Разве что жил в Москве безвестный коллекционер, и оборванец просто-напросто работал под заказ. В таком случае, стоит отдать ему должное. Герой так и не выдал своего сообщника.