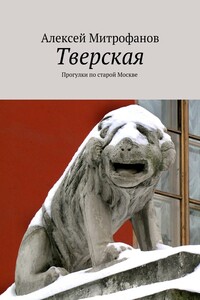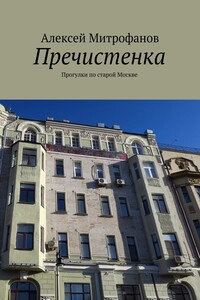Большая Никитская. Прогулки по старой Москве | страница 19
Советское государство, Коммунистическая партия дали Московскому университету все, о чем только может мечтать студент и ученый.
В текущей пятилетке университет почти вдвое увеличит выпуск специалистов по физике, математики, химии, геологии».
И так далее – в духе бравурного соцреализма.
Собственно говоря, во времена Михайлы Ломоносова и матушки Екатерины стиль официальных сообщений был не менее напыщенным.
* * *
Перед «новым» зданием – памятник Ломоносову, третий по счету. Первый – бронзовый бюстик на чугунном постаменте – работы скульптора С. Иванова, был установлен 12 января 1876 года. Скромная надпись гласила: «Ломоносову Московский университет 1876 год». Открытие бюста было приурочено к довольно странной дате – 122-летию основания Московского университета. Средства же были собраны с обычных граждан – по так называемой подписке.
Историк С. М. Соловьев (в то время – ректор университета) сказал на открытии памятника: «Народы живые, сильные больше всего боятся потерять память о своем прошлом, то есть о самих себе… Они изучают это прошлое научным образом, они ставят памятники великим людям».
О внешнем виде памятника выступающий не обмолвился. Причина, видимо, была отчасти в том, что мемориал сей, вернее, его постамент – имел довольно странную особенность, о которой упоминал один из героев повести П. Боборыкина «Проездом»: «Это полуштоф какой-то!.. Что за пьедестал! Настоящий полуштоф с пробкой… Точно в память того, что российский гений сильно выпивал!..»
Михаил Осоргин в повести «Времена» называл памятник «нелепой куклой Ломоносова».
Пастернак же писал в своей революционной поэме «Девятьсот пятый год»:
Так памятник – пусть малый да нелепый – вошел в русскую литературу. После революции он даже был включен в число монументов, имеющих художественную ценность.
В октябре 1941 года памятник был опрокинут фугасной бомбой. При этом постамент разрушился, а бюст остался цел. Его установили на каменной глыбе. Журналист Н. Вержбицкий писал 11 февраля 1942 года в дневнике: «Памятник Ломоносову на месте, только постамент новый. Не видно никаких следов от падения тонновой бомбы».
Тем не менее, в 1944 году бюст перенесли в Дом культуры гуманитарных факультетов Университета, ныне – церковь святой Татианы.
Памятник к тому времени настолько слился с образом университетского двора, что многие даже не верили в его отсутствие. В частности, И. Шихеева-Гайстер писала в книге воспоминаний «Семейная хроника времен культа личности 1925—1953»: «9 мая 1945 года кончилась война… Утром взяла портфель и поехала на факультет. Там, конечно, никто не учился. Под памятником Ломоносову стоял студент с бутылкой водки и наливал в наперсток каждому. К нему стояла длинная очередь из студентов и профессоров. Каждый выпивал из наперстка и передавал его следующему. Наперсток, настоящий живой наперсток. И очередь медленно продвигалась к этому студенту с бутылкой водки».