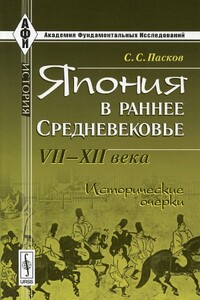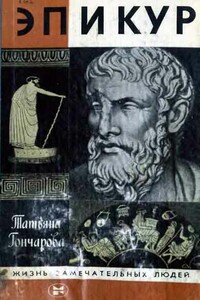Плутарх | страница 4
Рассказывать о жизни Плутарха, не особенно богатой внешними событиями, это значит рассказывать о его многолетних философских размышлениях и творческих исканиях, о неустанном стремлении понять закономерности истории и движущие силы человеческого бытия. И главное — о его стремлении ответить на важнейший вопрос — почему же все так произошло, почему совсем недолгим, по сравнению с восточными царствами, оказалось пышное цветение Эллады. Ответа на этот вопрос он, представляется, так и не нашел.
Глава 1. Начало пути
Отрочество наших дней щедрее плодами,
но их младенчество нам милее.
Луций Анней Сенека
Плутарх родился где-то между 46 и 51 годами нашей эры в Херонее, небольшом городке Беотии, которая и в более благополучные времена не отличалась особенным богатством, а теперь и вовсе запустела. Ее лучшая пора осталась далеко, в почти мифическом прошлом, когда на этой земле жили совсем другие люди, иного вида, языка и происхождения. Не исключено, это были те из уцелевших обитателей Эгеиды, затонувшей во время Дарданова потопа, которые впоследствии начали закладывать здесь основы городской жизни и культуры. В Беотии, задолго до прибытия туда греческих племен, царствовал несчастный царь Эдип, сам лишивший себя очей, не сумевших увидеть истину, а его сыновья, Этеокл и Полиник, мечами делили под стенами Фив отцовское наследство. Спустя много столетий об этом написал свои прекрасные трагедии афинянин Софокл, для которого полумифическое, скорее всего чужое прошлое воспринималось как начало эллинской истории.
Восемьсот лет назад в Беотии слагал свои поэмы Гесиод, горестный свидетель уходящего патриархального мира и нарастающей силы того железного, пятого в истории человечества века, который, как в тщетном отчаянии предвидел поэт, может оказаться последним. Божественный Пиндар, лебедь с белыми крылами, воспел в своих одах дерзновенную молодость уже эллинской Беотии. Долгое время беотийцы славились как лучшие в Греции земледельцы.
А потом пошли бесконечные стычки с соседями, прежде всего с афинянами. В этих междоусобных распрях старинные города настолько себя обескровили, что стали почти не сопротивляющейся добычей вторгшихся в середине III в. до н. э. полуварваров-македонцев. Царь Александр разрушил Фивы, чтобы преподать наглядный урок всем тем грекам, которые еще питали какие-то надежды на сопротивление. Потом Фивы были отстроены снова, но ко времени Плутарха, после нескольких опустошительных вторжений и пожаров, они совсем обезлюдели, запустели и превратились в небольшое селение. На заросших сорняками площадях постепенно разрушались старинные храмы и общественные здания, а все население умещалось теперь в домишках Кадмеи — бывшего Акрополя, сохранившего имя основателя города, финикийского царевича Кадма.