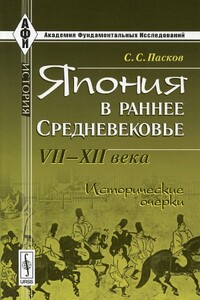Плутарх | страница 31
Преисполненный неиссякаемого интереса ко всему, что, как казалось ему, имеет отношение к греческой культуре и истории, будь то обломок медной доски с непонятными письменами или же древний дротик, найденный при земляных работах на окраине Херонеи, Плутарх не считает нужным уделять в своих воспоминаниях хотя бы несколько фраз столь восхищавшим Геродота восточным достопримечательностям — древним храмам непонятной ступенчатой архитектуры и по-варварски огромным дворцам, всем этим птице-львам и человеко-быкам, символам совсем иной модели мира. Более того, в трактате «О злокозненности Геродота» он порицает недостойное грека любование варварскими диковинками.
Бывая в богатых домах своих антиохийских знакомых, уставленных хорошо сработанными копиями Мирона и Праксителя, на их продолжающихся до рассвета пирах, с одуряющим ароматом аравийских благовоний и тяжелыми для его желудка яствами на неподъемных чеканных блюдах, присутствуя на фривольных, пустых комедиях с полуобнаженными арфистками и лениво отрабатывающими свою плату актерами, Плутарх отмечал с глубочайшим внутренним удовлетворением, насколько же это все ему противно. Особенное неприятие у него вызывали неуемная алчность азиатов, их стремление к наживе любой ценой, не стесняясь ни лжи, ни мошенничества, а также характерное для многих из них отвращение к бескорыстному умствованию, I к материям высоким и для практической жизни не нужным. Даже наиболее образованные из азиатов как будто бы боялись такого рода размышлений, к которым были по большей части неспособны, и поэтому высмеивали их как нечто пустое и не нужное.
Здесь не было настоящих философов, только все те же вездесущие софисты, пространно разглагольствующие перед публикой, не знающей, куда себя деть от скуки, по поводу всяких пустяков. И мысли Плутарха снова и снова обращались к важнейшему для него вопросу: куда же все подевалось — многовековые познания халдейских и вавилонских мудрецов, сумевших вычислить тридцатитысячные космические циклы, и благоговейно внимавшие своим восточным учителям пифагоры и демокриты? И наблюдая воочию праздное и в то же время суетливое мельтешение ближневосточного люда, с его вечной заботой о наживе, с его страстью к золоту, Плутарх постигал все больше главную истину греков: они — какие-то другие, другие от самых что ни на есть отдаленнейших времен, может быть, даже от легендарной гиперборейской прародины. Они оставались другими даже сейчас, в их измельчании и бедности, в их непоправимом поражении, и поэтому лучше им всем, всему бывшему эллинству понемногу уйти в небытие, а вернее, в иные пределы никем не созданного мира, чем уподобиться тем изворотливым существам с хитростью вместо души и разума, перед победоносной лживостью которых встал бы в тупик сам Аристотель.