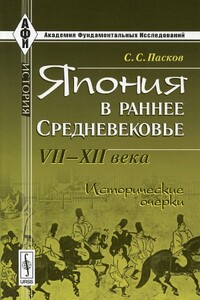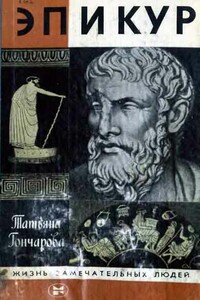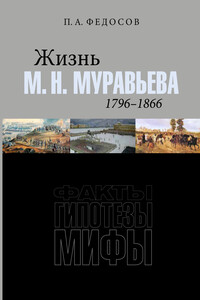Плутарх | страница 23
Все успокоились только теперь, на общем своем пепелище. Полунищим обывателям провинции Ахайя нечего было больше делить, а вдоль северных границ империи, за заслоном из германских наемников, колыхалось варварское море — неведомого происхождения орды, не знающие благ городской жизни, но жадно стремящиеся к ним. Когда этим рослым светловолосым варварам удавалось прорваться, как галлам еще во времена Республики, от греческих и италийских городков оставались одни головешки, и многие десятилетия спустя во влажных низинах той же Беотии находили варварские стрелы, обломки мечей и греческие шлемы. Кроме римских легионов, защитить их б гало некому, и поэтому греки, как и другие провинциалы, все больше воспринимали подчиненное свое положение как еще не самое страшное зло. Тем более что римлян можно было умилостивить покорностью и послушанием. И поэтому, когда сто лет назад, во время восточного похода Луция Лукулла кое-кто из херонейского простонародья попытался было воспротивиться самоуправству римлян, городской совет сам поспешил осудить зачинщиков на смерть.
Осознавая больше, чем кто-либо другой, что у греков нет надежд на возрождение, Плутарх старался, чем мог, хотя бы смягчить их теперешнее положение. С каждым годом углубляющееся знание истории позволяло ему подойти к блеску и закату Эллады всего лишь как к эпизоду, хотя и неповторимому, в многотысячелетнем существовании человечества, где народы один за другим проживают отведенные им сроки и на смену им приходят другие, чтобы познать те же взлеты и падения. Мифические титаны, карийцы, пеласги, свирепые морские народы конца минойских времен, гомеровские ахейцы — от них остались лишь смутные воспоминания. Настало и время греков. И единственное, что еще оставалось, — сохранить как можно больше из культурного наследия Эллады, в надежде на то, что из суммы всех благих деяний и помыслов слагается в конечном счете тот противовес, который не позволит обратиться в первобытный хаос космосу людского упорядоченного бытия.
Триста лет тому назад Эпикур и Зенон, последние большие философы Эллады, вели между собой непримиримый спор о том, как следует жить образованному и мыслящему человеку в такие времена, когда, казалось бы, навсегда утрачено то, что составляет смысл жизни свободного человека. Ведущий свой род от афинских граждан, Эпикур (Логокипос, Садослов, он проводил свои занятия в саду) считал, что при утрате независимости, когда само государство является чужим, бессмысленна любая политическая деятельность, и призывал каждого затвориться в крепости своего духа и знания. Сын финикийского купца Зенон, открывший школу в Пестром портике — Стоа Пойкиле в Афинах, был убежден, что жить общественной, деятельной жизнью можно и должно при любых обстоятельствах. Надо быть готовым к любому повороту истории, тем более что жизнь каждого народа — лишь едва заметный штрих в вечном бытии вселенной, а здравомыслящий и образованный человек может найти себя только в служении обществу, каким бы оно ни было. Выходец с Ближнего Востока, где государственная независимость некогда могущественных народов — вавилонян, ассирийцев, персов — давно стала достоянием истории, а такой политической жизни, как в полисах Эллады, и вообще никогда не было, основатель стоицизма (так стали называть его учение по имени портика) видел вещи совершенно иначе, чем Эпикур, внук и сын еще недавно свободных граждан, для которого македонское господство было как кровоточащая рана.