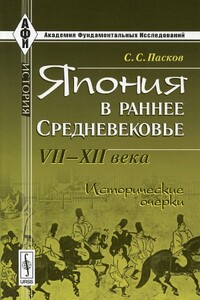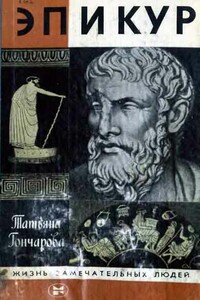Плутарх | страница 14
Уже собираясь в Италию, Нерон объявил во время последних, Истмийских игр о том, что он дарует свободу всей провинции, а тем, кто были судьями на играх, жалует римское гражданство и денежное вознаграждение. Таким образом, как писал впоследствии Плутарх, «дважды в Коринфе было оказано Греции одно и то же благодеяние». Более двухсот пятидесяти лет назад, также во время Истмийских игр, римский сенат и полководец Тит Квинкций, победитель македонцев, объявили о возвращении свободы коринфянам, эвбейцам, ахеянам и другим грекам, которые могли теперь не содержать у себя чужеземных гарнизонов, не платить дани и жить «по отеческим обычаям». Тогда эта свобода и права очень скоро обернулись для греков бесконечными поборами и нищетой. Но «слепые надежды», которыми наделил когда-то людей титан Прометей, еще не были изжиты окончательно и вновь встрепенулись в душах греков, когда Нерон с помоста на рыночной площади опять объявил их свободными людьми, живущими согласно собственным законам. И хотя уже никто, никакими указами и милостями не смог бы превратить в процветающие полисы как бы тронутые тлением полупустые города, греки были благодарны императору за этот недолгий праздник. Сам Плутарх, всегда выделявший «актера на троне» среди других римских властителей, в сочинении «О том, почему божество медлит с воздаянием» заставляет судей загробного мира смягчить наказание «пресловутому Нерону» за милосердие к грекам.
Перед тем как покинуть Ахайю, император решил положить начало еще одному важному делу — прорытию канала через Истм, что значительно облегчило бы мореходство и торговлю. Он первым ударил лопатой твердую землю и вынес на своих божественных плечах первую корзину. Возвратившись в Рим через пролом в стене, по старинному обычаю победителей на играх, Нерон развесил привезенные из Греции венки в своих почивальнях, рядом с собственными статуями в облачении кифареда. Философ же Аммоний с учениками возвратился в Афины, чтобы продолжать в тени старой рощи мифического героя Академа изучать труды основателя их школы, а также тех его продолжателей, прежде всего Акриселая и Карнеада, которым оказалось по силам хоть в чем-то развить грандиозные гипотезы их «достославного отца».
Трудно сказать, почему именно идеи Платона, а также Пифагора, которого он с годами стал чтить даже больше, чем Платона, стали основой мировоззрения Плутарха. Как невозможно объяснить, почему из мыслителей, людей примерно одинакового имущественного состояния, положения в обществе и интеллектуального потенциала, одни — тяготеют к материалистическому объяснению жизни, в том числе и на Земле, а другие — ищут первопричины всего в иных, только мыслью постигаемых пределах. Впрочем, здесь прослеживаются некоторые закономерности: так, философы той поры, когда Греция была на подъеме, еще только начинала славный путь великих побед и свершений, стремились определить то материальное первоначальное вещество, из которого все потом образовалось, — Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, или же склонялись к атомистическому устройству вселенной — Левкипп и Демокрит. Хотя примерно в эту же пору Пифагор учил о переселении бессмертных душ, а неимущий и больной Эпикур, живший в период жесточайшего упадка греческого мира, был убежденным последователем атомистов.