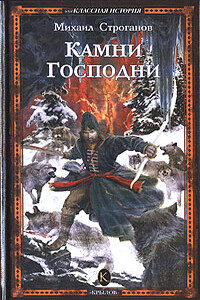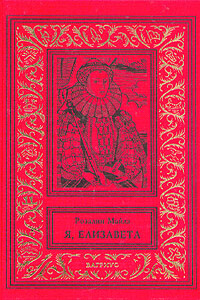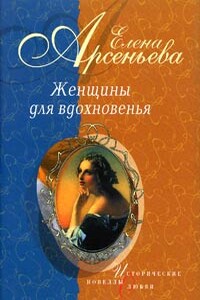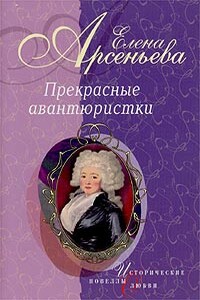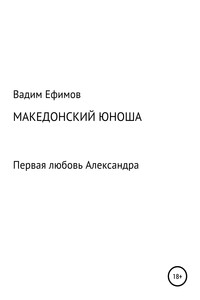Час Елизаветы | страница 59
Тщетно Розум пытался утешить цесаревну – с вечера она начинала с ним прощаться, а утром, вдоволь набоявшись и наплакавшись, обессилев, засыпала подле своего друга.
Когда тихие слезы переходили в истерику, с другой половины Смольного дома приходил Лесток и, бранясь, приводил в чувства свою раскисшую пациентку.
– Все бабьи страхи… – презрительно ронял немилосердный лекарь. – Слушалась бы меня, давно была бы на троне. Вы бы, Алексей Григорьевич, внушили принцессе хоть немного смелости. А то так и помешаться недолго…
Елизавета действительно была на грани безумия. Ночные бдения расшатали ее здоровье и разум. И поэтому когда однажды за цесаревной пришли ночью, чтобы отвезти во дворец для тайной беседы с императрицей, обессилевшая жертва почувствовала только облегчение. С Олексой она попрощалась почти весело, перекрестила его и расцеловала, Лестоку сказала:
– De rien, Иван Иванович, de rien…[1] – и уехала, оставив страх и отчаяние в наследство своим приближенным.
Тогда Олекса понял, что время его жертвы настало. Он вспомнил рассказанную ему Елизаветой историю – о том, как в смертный час юного императора Петра II его бабка, Евдокия Лопухина, вымолила внуку легкий уход.
Розум решил стать на молитву – но не для легкой смерти Елизаветы, а для ее спасения. И отмолить жизнь и свободу Елизаветы он собирался единственным своим достоянием – голосом.
В ту ночь Розуму казалось, что его голос – стрела, на мгновение застывшая на выбранном ею пути. Миссия Олексы близилась к концу, а вместе с ней – и голос. Розум видел перед собой императрицу, ее оплывшее нарумяненное лицо с насурьмленными бровями, Лизаньку – в ногах у государыни, и картина эта представлялась Олексе полем битвы, ожидающим его прихода. Ни страха, ни сожаления не было в его душе, Розум лишь пытался вкатить на гору огромный, обжигающий ладони шар, и после каждого сделанного шага безмерная усталость наполняла все его существо.
В покоях у Елизаветы, перед иконой Богородицы Семистрельной, Олекса пел знакомую с детства хвалу Богородице:
«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род: освященный храме и раю словесный, девственная похвало, из Нея же Бог воплотися и младенец бысть, прежде век сый Бог наш; ложесна бо Твоя престол сотвори, и чрево Твое пространнее небес содела…»
Олекса знал лишь одну цель – наполнить жалостью немилосердное сердце Анны Иоанновны, смирить ее гнев и гордыню, и прямо в жестокую, греховную душу императрицы метил он своим пением.