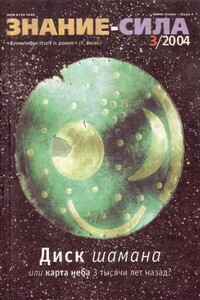Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику | страница 20
Наследие Генриха Бибера
После смерти Бибера его церковная музыка была фактически забыта. Грандиозная месса к 1100-летию Зальцбургского епископства была издана в Австрии в 1903 г. с ошибкой в атрибуции – ее приписали итальянскому композитору. Один из реквиемов был напечатан в 1923 г.; большинство духовных сочинений не увидели свет вплоть до конца XX в. Даже работа Бибера, сейчас считающаяся его вершинным опусом, – цикл из 15 сонат для скрипки под названием «Розарий» – была создана в 1676 г. и пребывала в неизвестности вплоть до 1905 г., когда состоялась ее публикация. Музыка «Розария», один из лучших образцов темпераментной, хрупкой вычурности барокко, поразила скрипачей XX в.: Пауль Хиндемит, любивший и знавший музыку той эпохи[19], называл Бибера лучшим скрипичным композитором до Баха. Немеркнущей, однако, оставалась слава Бибера-скрипача; она пережила и моду на блестящий легкий «итальянский вкус», в которую ударились немецкие скрипачи в XVIII в., и романтическую исполнительскую модель, сформированную в XIX в. По всей видимости, этот человек обладал экстраординарным скрипичным аппаратом: в соединении с барочной страстью к удивлению, фокусам, эффектам и аффектам это дало жизнь целому пласту скрипичного репертуара, где атмосфера мистики сплетена с зубодробительной акробатикой, достойной Паганини. Бибер исследовал акустические эффекты, которых можно добиться с помощью самого «тела» инструмента, играя с его возможностями, как он делал с пространством собора. Его очень интересовали разные варианты настройки струн[20]: вмешательство в саму анатомию скрипки. Но не только – он первым придумал использовать хрустящий звук, который получится, если не прикасаться к струнам волосом смычка, но ударять по ним его деревянной частью[21], или звук щелкающий, как кнут, которого можно добиться, с усилием оттянув струну и отпустив ее; первым изобрел эффект «подготавливания»[22] инструмента с помощью кусочков бумаги, которыми можно проложить струны, чтобы изменить их тембр, как накинутый на телефонную трубку носовой платок меняет тембр голоса.
«Большой» Реквием
Нечасто случается так, что композитор пишет несколько реквиемов. Бибер – одно из исключений: как говорилось выше, у него их два. Первый, более развернутый, называемый «Requiem a 15» – для 15 голосов, поражает мажорной тональностью и неуместным, казалось бы, блеском звучания. Почти не умолкая, в нем играет труба – праздничный, церемониальный, торжественный голос, всегда связанный с идеей чего-то гимнического, официально-государственного; «Осанна» и вовсе звучит ликующе. Этот реквием – воплощение барочной роскоши. Она выражается в богатстве инструментальных тембров, в сложной вязи голосоведения, в использовании звуковых «террас» и взаимно устремленных потоков звука. Очевидна ставка, которую Бибер делает на выразительность именно инструментальной игры, а не пения, причем особенно важно, что это происходит в церковной музыке. Не произносящий текста, «немой», как кажется, инструмент берет на себя мощную коммуникативную роль, более заметную для слушателя, чем слова, которые поют хор и солисты. Здесь мы снова видим свидетельство того, как размываются в XVII в. границы между светской и религиозной музыкой: напомним, во времена Бибера распространенной практикой было исполнение инструментальных пьес посреди мессы, да и сам он пишет музыку, где грань между церковным и концертным зыбка. Взять хотя бы его сборник сонат «Sonatae tam aris quam aulis servientes» (1676), дословно – «Сонаты, подходящие для церкви и гостиной», или «Fidicinium sacro-profanum» (1683) – «Духовно-светская скрипичная музыка».