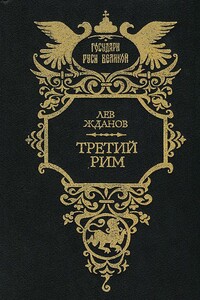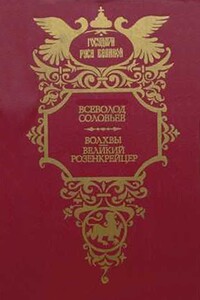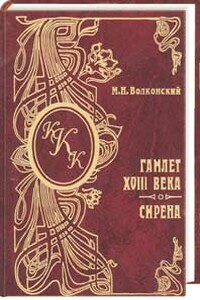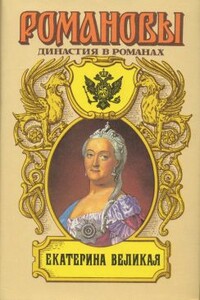Царский изгнанник (Князья Голицыны) | страница 14
Тридцатилетний несчастный любовник тоже иногда стреляется; но чаще он предпочитает застрелить или хотя бы подстрелить своего соперника, а иногда и её, коварную. Себя же он застрелит не иначе как сгоряча и непременно у ног коварной. Письма перед смертью он ей не напишет, а если начнёт писать, то раздумает стреляться.
Не застрахован от душевных волнений и сорокалетний волокита; но он не поддаётся им, как хорошо обстрелянный воин не кланяется свищущим около него нулям. Любовные его невзгоды имеют развязки самые естественные: или у него начнёт седеть борода, или пропадёт сон, или испортится аппетит. Средства к излечению у него тоже незатейливые: жестокую свою красавицу он в глаза или письменно назовёт кокеткой (полагая, что без него она этого не знала); потом недельки на две удалится от неё; выкрасит или сбреет себе бороду; от бессонницы примет порошок с опиумом; для восстановления аппетита выпьет лишнюю рюмку настойки и, радикально вылеченный, дерзает на новые пули.
В пятьдесят лет любовь... любовь в пятьдесят лет... Но слова эти так смешно, так неуклюже ладятся между собой, так враждебно смотрят друг на друга, что, не умея примирить их, переходим, без дальнейших отступлений, к продолжению нашего рассказа.
Желая избегнуть вопросов своего семейства о бледности, о дурном расположении духа, князь Василий Васильевич Голицын, возвратясь домой, сказался очень усталым и прошёл прямо на свою половину. Много грустных, несносно тяжёлых мыслей перебродило у него в голове в эту бессонную ночь, однако на следующее утро, 25 июля, в День именин схимонахини Анфисы, он встал по обыкновению, оделся раньше обыкновенного и поехал в Вознесенский монастырь.
После обедни он поздравил именинницу, обеих цариц[9], царя Петра Алексеевича и царевну Софию Алексеевну. За трапезой в келье именинницы он был весел и разговорчив, как следует быть на пиру. И никому, кроме царевны, не было нужды догадываться, сколько горя, сколько грусти скрывалось под этой весёлой оболочкой; в смеющихся сквозь слёзы глазах этих она одна могла прочесть и сожаление о потерянном счастье, и безутешную скорбь разочарованной души, и отсутствие всякой надежды на будущее. Она видела, что оскорблённое самолюбие этого человека пренебрежёт, конечно, мщением оскорбившей его женщине, но что оно не может простить ей, — не может позабыть её оскорбление.